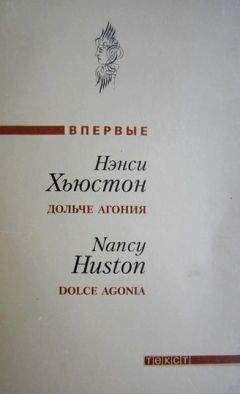Нэнси Хьюстон - Линии разлома
— Кто такой Питер? — спрашивает он.
— Питер Зильберман. Мой новый импресарио.
Снова наступает тишина.
— Питер… Зильберман? — повторяет бабушка таким тоном, как будто это имя ей чем-то не нравится.
— Что такое импресарио? — спрашиваю я, представив себе Прекрасного Принца с волнистыми волосами, бросающего в лужу свою красную накидку, чтобы мама не замочила ног.
— Это господин, который занимается тем, чтобы сделать меня знаменитой! Он заботится о моей карьере, организует концерты.
— Ты планируешь концерты? В приличном месте, не в кабаке, не в прокуренном шалмане? — спрашивает дедушка.
— Именно так. — Мама очаровательно улыбается. — Прислать вам билеты?
— Ты прекрасно знаешь, что я ничего не понимаю в твоей музыке, Кристина, — качает головой бабушка. — Не хочу тебя обидеть, но песни без слов еще никому не помогли добиться успеха.
— Я буду первой! — отвечает мама. — Зачем делать то, что кто-то уже сделал до тебя?
Бабушка поджимает губы и насаживает на вилку кусок мяса, словно хочет сказать: и когда только моя дочь научится смотреть правде в глаза?
— У Сэди хороший аппетит, я могу приготовить вам макароны с сыром на вечер…
— Макароны-шмакороны! — смеется в ответ мама. — Один уик-энд Сэди посидит на мамочкиной диете — сухой хлеб и виски… правда, детка?
— Еще бы! — Я лихорадочно ищу, что бы еще остроумного добавить, но в голову ничего не приходит: надежда провести ночь в мамином доме до крайности меня взбудоражила.
— Хорошо, — вздыхает бабушка. — Я соберу ей маленький чемоданчик… У тебя есть лишняя кровать?
— Можно привязать раскладушку к багажнику машины Питера, — предлагает дедушка.
— И речи быть не может! — восклицает мама. — Она может спать на диванчике… да, крошка?
— Еще бы! — Я боюсь показаться дурочкой из-за того, что дважды повторила одно и то же, но мама смотрит на меня взглядом, полным любви и нежности.
— Ну вот, все улажено, — говорит она. — Спасибо за обед, но мне пора бежать на репетицию.
— На репетицию? — изумляется бабушка. — В пасхальное воскресенье?
— Думаешь, Иисус рассердится на меня? Уверена, у него есть дела поважнее…
— Кристина! — восклицает бабушка, разрываясь между желанием отчитать дочь за богохульство и удержать ее в своих когтях. — Не хочешь съесть десерт? Вчера я испекла шоколадный торт, специально для тебя.
— Ты все время забываешь, что я не люблю шоколад.
Следуют поцелуи, объятия, слова прощания — и мама исчезает. Я стою у окна и смотрю, как она легкой, танцующей походкой идет по тротуару, розовый шарф развевается на ветру за ее спиной, потом она заворачивает за угол, а бабушка говорит:
— Сэди, помоги мне убрать со стола.
Я буду благоразумной, я буду безупречной, я не совершу ни одной ошибки за следующие шесть дней, клянусь, что буду наступать на трещины в асфальте только правой ногой, о, мама мама мама мама мама… моя любовь к маме растет и раздувается, как воздушный шарик, так что кажется, что грудь вот-вот разорвется, если бы я только могла раствориться в маме, стать с ней единым существом или превратиться в невероятный, волшебный голос, рождающийся в ее горле, когда она поет.
Получилось. Мама открывает дверь своим ключом, Питер — ее импре-что-то-там несет мой чемодан, мы вместе переступаем порог, мы уже внутри, и я наконец становлюсь частью маминой жизни. Ее квартира находится в полуподвале, это даже не квартира, а одна большая комната — темная и таинственная, как пещера, с крохотными оконцами, выходящими прямо на тротуар, так что можно видеть ботинки и туфли идущих мимо людей. В комнате витает артистический аромат дыма, свечей и кофе, повсюду стоят и лежат книги.
— Будь как дома, детка. Мы с Питером немного поработаем, не возражаешь?
— Вовсе нет!
Я чувствую себя очень неловко, как будто мама — это и не мама вовсе, а чужая женщина, на которую мне нужно произвести хорошее впечатление, но она ведь и правда моя мама. Я сворачиваюсь клубочком на диване. Питер (высокий, угловатый, с длинными темными волосами и в очках) садится за пианино, мама стоит, рядом с ним, и я понимаю, что инструмент для них — не противник, а друг, закадычный дружок. Питер начинает играть, и ноты сливаются в мелодию, как река в половодье.
— Будешь нашей публикой, Сэди, оценишь новый кусок?
— Класс!
Мама поглаживает родинку на левой руке и разогревает голос гаммами и арпеджио, но для нее они не алфавит, она делает это с таким наслаждением, как будто бежит босиком по песку. Она делает знак Питеру, что готова.
Иногда она издает губами такой звук, как будто пробка выскакивает из бутылки, или бьет себя ладонью в грудь, словно хочет подчеркнуть льющуюся из горла музыку. Кажется, что ее голос рассказывает историю — не только своей жизни, но всего человечества с войнами, голодом, сражениями, испытаниями, триумфами и трагедиями. Временами мелодия льется грозными волнами, напоминая бушующий океан, потом начинает звучать, как водопад, льющийся с вершины скалы и обрушивающийся в белую пену на поверхности темной блестящей воды. Мамин голос рисует вокруг моей головы золотые нимбы, подобные кольцам Сатурна, он раскачивается, как будто танцует канкан, жалуется и дрожит, закручивается вокруг ноты фа, как плющ вокруг ствола дерева, ныряет в прозрачные голубые воды аккорда соль мажор, который Питер берет левой рукой… Я потрясена. Мама права: никто никогда не использовал свой голос подобным образом. Таких, как моя мама, больше на свете нет: она изобретатель, гений, богиня пения в чистом виде. Если бы мисс Келли услышала, как мама поет, ее бы удар хватил, она бы тут же на тот свет отправилась, признав, что ее музыка никому не нужна.
Мама заканчивает отрывок, она вся мокрая от пота (по бабушкиным правилам слово «пот» — почти ругательство, а у дедушки есть присказка: «Лошади потеют, мужчины взмокают, а женщины сияют», а еще он говорит о женщинах: «Можно взять лошадь на бал, но танцевать ее не заставишь, можно подвести женщину к полке с книгами, но думать ее не научишь»), даже майка прилипла к телу. Питер вскакивает, хватает маму на руки и начинает кружить ее по комнате, приговаривая: «Это потрясающе, Крисси!» Мама откидывает голову назад, и она мотается, как у тряпичной куклы.
— Что скажешь, милая? — спрашивает она, когда Питер наконец отпускает ее.
— Класс! (Я по-прежнему не могу придумать ничего умнее.)
— Тебе понравилось?
— Еще бы!
— Думаешь, я могу с этим где-нибудь выступить?
— Да!
— Ах, детка… — выдыхает мама и целует меня. — Мы доберемся до небес, понимаешь?
— Теперь моя очередь, — говорит Питер, поворачивает маму к себе и целует в губы, как в фильмах, хотя бабушка всегда выключает телевизор, когда целуются, а тут я могу созерцать всю сцену с начала до конца. Питер, правда, выглядит как-то странно, как будто ничего не кончилось, губы у него влажные и красные, он достает из кармана горсть мелочи и говорит:
— Мне кажется, Сэди хочет сходить в бакалею на углу и купить себе конфет, так ведь?
Мама оборачивается ко мне:
— Отличная мысль, правда, Сэди?
Я, конечно, очень люблю конфеты, а достаются они мне только на Хэллоуин и Рождество (бабушка считает, что сладкое портит зубы!), но мне совсем не улыбается бродить по незнакомым улицам в поисках незнакомой бакалейной лавки.
— Да нет, не надо мне никаких конфет. — Я пытаюсь возражать, но Питер сует мне деньги в ладонь со словами: «Я уверен, что в глубине души эта маленькая девочка умирает от желания отправиться за конфетами», а мама уже несет мое пальтишко и объясняет: «Слушай внимательно, детка, это в четырех улицах от дома, по прямой, иди, а то заскучаешь, пока мы репетируем». — «Мне совсем не скучно!» — протестую я, но она уже ведет меня к двери со словами: «Давай, малышка, не упрямься. Когда вернешься, сядем играть в рами».
Улицы длинные, и я боюсь, что заблужусь, или меня разорвут собаки, или похитит шайка нищих, но я хочу доказать маме, что уже выросла и не стану для нее обузой, если мы будем жить вместе, и как только страх подкатывает к горлу, а на глазах выступают слезы, я их глотаю, ноги как будто отделяются от тела, чтобы убежать, но я заставляю их шагать спокойно и размеренно — левая-правая, левая-правая — и по возможности наступаю правой на трещины в асфальте. Квартал, где живет мама, не такой ухоженный и богатый, как наш, из трещин в тротуаре прорастает трава, штукатурка осыпается, люди сидят на ступеньках, пьют пиво и болтают, потому что сегодня выдался первый по-настоящему теплый день. Когда я наконец добираюсь до магазина, мне кажется, что путешествие заняло много-много часов.
Я толкаю дверь, у меня над головой звякает колокольчик, я подпрыгиваю до потолка, роняю монетки, которые получила от Питера, и они раскатываются по полу. Толстая дама, стоящая за кассой, весело восклицает: «Вот-те на!» К счастью, в магазине нет других покупателей и посмеяться над моей неуклюжестью некому. Я опускаюсь на корточки и начинаю подбирать монетки, одну за другой, и на это уходит целая вечность. Закончив, я поднимаюсь, дрожа от страха, что толстухе надоело ждать, но она на меня даже не смотрит — листает себе лениво журнальчик и позевывает. Похоже, вечером собирается в гости, иначе не надела бы зеленое парчовое платье. Бигуди на голове не очень к нему подходят, но кто захочет надевать платье потом и портить прическу?