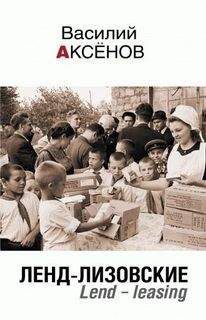Василий Аксёнов - Весна в Ялани
Сидели они как-то – Коля, маленький ещё тогда, дошкольник, и его родной, но странный дядя Саня – на берегу Бобровки, рыбачили на ершей.
– Ты можешь шлёпать, шлёпать, шлёпать, шлёпать до Боженьки, год или два, да хоть всю жизнь, – сказал тогда, среди прочего разговора, дядя Саня, – так до Него и не дошлёпать. А почему?
– А почему? – спросил, помнит, Коля.
– А потому, милый мой, что от тебя до Него бесконечность, – ответил дядя Саня.
– Как от Ялани до Колесниковой?
– Как никуда от ниоткуда… А Он до тебя в один момент может добраться: хлоп – и готово! А почему?
– А почему?
– А потому, милый ты мой, что между тобой и Боженькой нет расстояния. Тебе понятно?
– Нет.
– Ну, ещё рано. Подрасти.
Господи, упокой и Александра. Где его кости?.. Где и все. Когда восстанут… У Бога нет ни мёртвых, ни потерянных…
Подошли Истомин Николай и Фоминых Гриша. У Николая в руках пакет. У Гриши – табуретка. Оба в лёгких, демисезонных, куртках. Ни шапки, ни кепки на голове ни у того ни у другого.
– Не жарко, – говорит Гриша.
– Здорово, – говорит Истомин Николай.
– Заходите, – отвечает им Коля.
Вошли Николай и Гриша в оградку. Смотрит Гриша на крест и спрашивает:
– Он шестьдесят всего прожил, дядя Сергей-то?
– Шестьдесят, – говорит Коля.
– Мало, – говорит Гриша. – Он тёти Гали-то был старше?
– Старше, – говорит Коля. И говорит: – Располагайтесь.
Сел Гриша на принесённую им табуретку.
– Моя, – говорит. – С могилки. На ней, приду когда, сижу.
Николай – к Коле, на скамеечку. Расположились.
– Красота, – говорит Гриша, – когда комаров-то нет.
– Всё бы лето так, – говорит Истомин Николай.
– Но, – говорит Коля. – С ними-то это…
– Рта не открыл бы, сразу весь забили бы, глаза бы залепили… И ни мошки, ни слепней, мило дело. Чуть потеплей бы… Ну чё, помянем наших, чё ли, – говорит Гриша. Видно, с похмелья он – с тяжёлого.
– И всех, кто здесь лежит, – говорит Николай Истомин. – Односельчан. Сколько их тут… с семнадцатого века?
– А как? – говорит Гриша. – Обязательно.
– Кто их считал, – говорит Коля. – Немерено.
– Тысячи, – говорит Гриша. – Сонм.
Развернул и расстелил он прямо на холмике газету, которую вытащил из внутреннего кармана куртки.
Выложили все на газету хлеб, яйца, сало, огурцы солёные – кто чем богат, кто что принёс.
Достал Николай Истомин из пакета початую бутылку водки, поставил её на скамейку между Колей и собой.
– Не опрокинуть бы, – беспокоится Коля.
– Опрокинем, – говорит Гриша. – И прямо счас.
– Тогда бери её, – говорит Коля.
Разлил Гриша по стопочкам. Взяли в руки по огурцу.
Сидят молчат. Как будто ветер в поднебесье или щебет птичий слушают.
Намолчались.
– Ну, – говорит Гриша. – Чтобы им тут… и там… понятно.
Выпили. Закусывают.
– Ну, чтобы это… сразу по второй, – говорит Гриша.
Разлил. Выпили. Закусывают.
Заговорили, закусив.
– У меня дома две фотографии хранятся, старые, – начал Гриша. – Похороны. Тут вот где-то. Изменилось, точно где, и не узнаешь. Одна сделана в сороковом году. Стоят у могилы первой жены моего дяди Володи Фоминых – от болезни умерла какой-то, после родов ли, не помню – почти одни мужики, человек пятьдесят. И на другой – тоже похороны, чьи – не знаю. В сорок шестом – одни лишь женщины, мать среди них. Такое дело.
– Да, – говорит Истомин Николай. – Выкосило.
– Вышшэлкало, – говорит Коля.
– Ну чё, с Победой, – говорит Гриша.
– С Победой, – говорит Коля.
– За отцов, – говорит Истомин Николай.
– И за дедов, – говорит Гриша.
– И за женщин.
– За матерей и бабушек.
– За всю Россию, – говорит Коля.
– Ну, за Россию-то – конечно, – говорит Гриша. И говорит: – Теперь четвёртую.
Разлил.
Выпили. За живых ещё фронтовиков, доживающих: дай им, мол, Бог здоровья, – чокнулись. И закусили.
– Да, их осталось-то уж… единицы, – говорит Гриша. Просветлел лицом немного – похмелился.
– Уходят, – говорит Истомин Николай.
– Царство небесное, – говорит Коля.
Допили то, что оставалось. Стали собираться.
– На яру кемском по-настоящему, как принято, отметим, – говорит Гриша. – Петь-то захочется – не здесь же.
– Я бы пошёл, но не могу, – говорит Истомин Николай.
– А чё? – спрашивает Гриша.
– Ехать надо. И у матери кое-что сделать… не успею.
– Отмечать нечем, – говорит Коля.
– У меня есть, – говорит Гриша. – Не волнуйся. На месяц вперёд затарился.
– Да ну?! – говорит Коля. – Запасливый.
– Ты думал, – говорит Гриша. – Понадобится. Я табуретку тут пока оставлю. Приду потом, перенесу.
Кладбище покинули. Пошли в Ялань. Идут шеренгой. Расступаются: люди им попадаются навстречу – к родителям направляются. Пешком. На машине сюда пока не проедешь. Машины на краю Ялани оставляют, перед ручьём. Здороваются. Знакомые и незнакомые. Вы уж оттуда, мол, а мы вот только. Дескать, не опоздаете. Да, это так, туда успеем, мол, всегда. Чем, дескать, позже, тем и лучше. Оно – канешна.
Сквозь жидкие облака небо проглядывает, солнце просвечивает; снежок пробрасывает редкий. Стыло.
– Зима вернулась, – говорит Истомин Николай.
– Ага, – говорит Гриша. – Чё-то забыла тут, в Ялани.
Коля молчит.
– Сюда поехал, – говорит Николай, – оделся так, думал, что потеплеет.
– Ну, это зря ты… Я вот тоже, – говорит Гриша.
Коля молчит.
На родину, с горы спускаясь, смотрят.
– Помните, – говорит Николай, – на столбе перед проходной МТС висел раньше громкоговоритель?
– Колокол. Помню, – говорит Гриша.
– Смутно, – говорит Коля.
– От нас хорошо его слышно было. Будил меня. Песни на Девятое мая звучали: «Эх, дороги», «Соловьи», «Землянка», – говорит Гриша.
– Да, да, – говорит Николай Истомин, самый старший из них. – Мы ещё в пилотках по деревне бегали. В вылинявших, настоящих, в которых мужики с войны вернулись. Возле чайной фронтовики всё собирались.
– Да и не только. Возле клуба, – говорит Гриша.
– И возле клуба, – говорит Николай. – В буфете клубном пиво продавали. А в чайной – портвейн и водку.
– Помню, как бочки пахли им – портвейном, – говорит Гриша. – Тот бы попробовать. Теперешний – отрава.
– Дядя Ваня Патюков, покойный, – говорит Николай, – стойку на руках на ножках табуретки делал. Помните?
– Помним.
– Монетки вываливались из карманов. Мы собирали. А он не брал обратно деньги. Рот – улыбается – беззубый. В магазин, скажет, идите, ребятишки, газировки или пряников себе купите. Покупали.
– И нас, – говорит Гриша, – конфетами, подушечками, угощал. Вы-то тогда большие уже были.
– Царство небесное, – говорит Коля.
– А мы-то с Колей – ещё мелочью пузатой, – говорит Гриша.
– Но, – говорит Коля. – Мы-то тогда ещё кого…
– А дядя Игнат Пшеничкин, – говорит Николай, – на одной ноге и на деревяшке прискакивал, задирал рубаху и раны на спине нам показывал и плакал.
– Тогда народищу тут было, – говорит Гриша.
– Да-а, – говорит Истомин Николай. – Полным-полно.
Ручей миновали, в горку вошли. На перекрёстке остановились.
– Ну чё? – говорит Гриша. – Собак мне надо покормить – голодом сутки… Я забегу домой, возьму картошки, Коля, испечём, а ты на яр иди, костёр раскладывай. Ты меня понял?
– Понял. Грабли надо занести, – говорит Коля.
– Да и бутылку не забыть бы… Занеси, – говорит Гриша. – Там только, дома, долго не задерживайся.
– Не, – говорит Коля. – Сразу.
– Куда ты, к Луше или к матери?
– Да тут. До Луши не пойду.
– Ну, давайте, – говорит Истомин Николай. – Жаль, что с вами не могу… не получается.
– Жаль, – говорит Гриша.
– Ну, – говорит Коля.
– Жена строгая, – говорит Гриша.
– Да нет, дела, – говорит Николай.
Попрощались с Николаем. Пошёл тот к матери. По забегаловке. Быстро ходит. За старым, полуразваленным домом уже скрылся.
Как метеор.
– Бабы боится, – говорит Гриша.
– Наверное, – говорит Коля.
– Есть кого.
– Строгая?
– Злая.
И разошлись.
Свернул Коля на Турпановскую улицу. Тем же путём, как уходил, задами, стал по огороду к дому подниматься. Из огорода слышит голос Зинаиды – из ограды тот доносится.
Опять, ли чё ли?
Вошёл Коля в ограду. Поставил под навес грабли. Из-под навеса не выходит.
Мать стоит возле крыльца, на коня, на палку, оперевшись. Пока помалкивает. Глядит на дочь, не отрываясь.
Мечется Зинаида по ограде, кричит:
– Вот где фашистка-то, вот где нацистка! – срывает с верёвки высохшее и выстывшее детское бельё, бросает его в жёлтый эмалированный таз. – Хоть иди просись с детьми к кому-то на всё лето! Тут – как в концлагере!
Лицо у Зинаиды перекошено, глаза округлились, почернели – так зрачки, наверное, расширились. Бывает. Искрами вылетает изо рта слюна – как будто языком о зубы высекатеся.