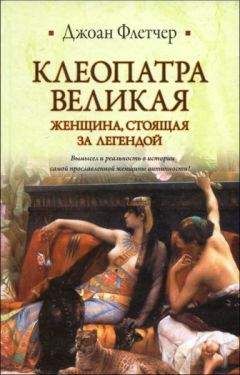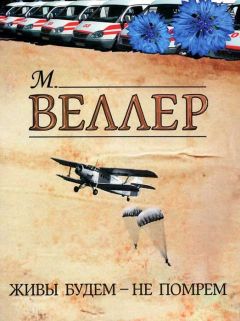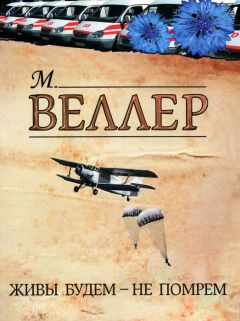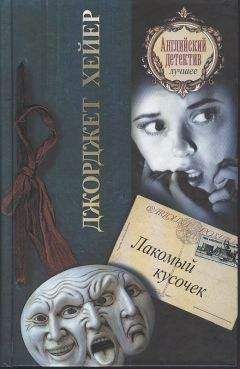Э. М. Хоумс - Да будем мы прощены
Нейт излагает дальше, и все, что он говорит, не только правда. Это еще и логично, отлично продумано, хорошо сформулировано, убедительно. Он объясняет себя и окружающий мир, и у меня только одна мысль: невероятно, в голове не укладывается, что Джордж и его не убил.
Я влюбляюсь в Нейта. Он именно такой, каким я хотел бы быть в его возрасте, да даже и сейчас хотел бы. Я от него в благоговейном ужасе. Умелый, как никто из нас, и при этом еще ребенок.
– Твой папа знает, что ты все это умеешь?
– Сомневаюсь.
– А ты ему говорил хоть раз?
– Не знаю, как бы это выразить повежливее, но когда папа сюда приезжал, он в основном ручкался с народом и мало что замечал вокруг. И я предпочитал, чтобы так и было. Меня он вообще не замечал – считал неудачником, который зря тратит кислород и ресурсы. Так он и говорил – ресурсы.
– Да, он мужик суровый, – подтверждаю я.
– Не хочу я на эту тему.
– Без проблем. А о чем можно?
– Почему у вас с Клер детей нет?
Я беру у него стакан и отпиваю пива – слишком много, одним глотком. Оно щекочет ноздри, я давлюсь, разбрызгивая «Гиннес» по столу.
– Красиво, – говорит Натаниэл, пока я вытираю брызги.
– У нас однажды почти уже был ребенок. Клер забеременела, но произошел несчастный случай.
– Она потеряла ребенка? – требует ясности Нейт.
Я киваю. Это такая, приглаженная версия. На самом деле ребенок был мертворожденный, застрял и вышел по частям, когда его вытаскивали. А я все это видел. Я сидел с ее стороны занавеса, когда ребенка вытаскивали. Доктор вдруг крякнул с досадой, и я тогда встал, посмотрел – и увидел куски. Какое-то время до родов ребенок уже был мертвым. Клер приподняла голову:
– Можно мне посмотреть на ребенка?
– Нет, – слишком резко ответил я. И ничего ей потом не рассказывал.
– Младенец – все, – сообщил доктор. Я до сих пор не знаю, хотел он сказать, что его извлекли полностью или что он родился мертвым.
– Клер долго еще была в депрессии. «Тяжело прощаться с тем, кого ни разу не увидела», – говорила она. А я не знал, что ей ответить. Насчет второй попытки мы даже не заговаривали – слишком тяжело нам это далось.
– Моя мама тебе нравилась? – спрашивает Натаниэл, возвращая меня в настоящее.
Официантка ставит передо мной тарелку. От картошки поднимается пар, а мясо оживляет меня, как нюхательные соли.
– Нравилась? – повторяет он.
– Да, – отвечаю я не задумываясь.
– Ты ее любил?
– Это довольно сложный вопрос.
– Ты скучаешь по ней?
– Невероятно.
– Мне хочется думать, что она погибла не без причины. Умереть за любовь – причина вполне достойная.
– Тебя кто-нибудь спрашивал, хочешь ли ты видеть отца? – спрашиваю я.
– Да, – отвечает он. – И нет.
Несколько секунд молчания.
– Ты часто разговариваешь с Эшли?
Он удивлен:
– Я ей каждый день звоню.
– Так всегда было?
– Нет, – отвечает он и снова замолкает. – Вот растешь, думая, что у тебя семья нормальная, не хуже, чем у прочих, а потом вдруг раз! – и происходит ненормальное, а ты понятия не имеешь, как это так получилось, и метаться уже некуда, и никогда снова не будет нормально. Это же не то что несчастный случай, когда на кого-то дерево упало, и не то, когда можно на кого-то другого злиться, на чужого человека… – Он осекается, молчит. – А что с мальчиком?
– С каким мальчиком?
– Который выжил после аварии. Он где?
– Живет у родственников. Кажется, у тетки.
– Мы должны для него что-нибудь сделать.
– Может, имело бы смысл создать фонд, чтобы у него всегда было все необходимое, – предлагаю я.
– Могли бы взять его как-нибудь на выходные, – предлагает Нейт. – Я очень люблю аттракционы, и он, наверное, тоже.
– Могу подумать в эту сторону. Это то, что ты хотел бы сделать, – взять этого мальчика куда-нибудь развлечься?
– Это самое меньшее, что мы можем, – говорит Нейт.
И он прав.
Мы едим. Ничего нет лучше на самом-то деле, нежели салат «Айсберг» с сырной заправкой, стейк и печеная картошка. Я заливаю сметану в дымящуюся шкурку картошки, напоминая себе при этом, что сметана в рекомендованный доктором список не входит. Ну и хрен с ней. Я еще сверху накручиваю соли и перца из мельничек – это утонченно.
После ужина я отвожу Нейта обратно в школу, медленно проползая по дорожке в длинной колонне родительских автомобилей, возвращающих мальчиков на ответственное хранение.
Можно строить догадки, как и почему представители рода человеческого, молодые люди в частности, образуют специальные клубы, вырабатывают ритуалы, привычки, повторяющиеся и передающиеся из рода в род. В таких вещах есть что-то очень уютное, спокойное, есть убежище – быть одним из многих, элементом группы, членом стаи – помимо семейной.
– Бывает, что взрослые пробираются внутрь и остаются ночевать? – спрашиваю я. Мне очень любопытно было бы понаблюдать изнутри жизнь дортуара.
– Нет, – отвечает он.
Я снимаю ногу с тормоза, и машина осторожно движется на холм. Один за другим выходят перед главным зданием ребята, в книге отмечают вернувшихся.
– В церковь ровно в девять утра, кофе и континентальный завтрак в восемь, – говорит директор и отпускает меня.
– Спасибо, что полез на стенку, – говорит Нейт. – Это было потрясающе.
Когда он закрывает дверцу машины, я не сдерживаюсь и выпаливаю:
– Нейт, я люблю тебя.
Хлопнувшая дверца отсекает мои слова. Нейт снова ее открывает:
– Прости, ты что-то сказал?
– До завтра, говорю.
– Ага, пока.
И дверь опять захлопывается.
Я еду в свой пансион. Ощущение – будто это я ребенок, и сейчас оставил взрослого – Нейта – в большом доме на холме. Комната в пансионе у меня крошечная – то, что называется каморка горничной, – и в ней приятно пахнет кедром. Когда я приезжаю, хозяйка спрашивает, не возражаю ли я, чтобы принадлежащий хозяйскому ребенку хомячок ночевал в моей комнате. Она говорит, что в случае необходимости может перенести животное, но ему лучше оставаться на месте, если это возможно.
– Он теряет ориентировку, если его переносить. Похоже, у него альцгеймер, хотя не знаю, какие точно у хомячка должны быть симптомы.
Я смотрю на хомяка, хомяк на меня. Не похоже, что у него альцгеймер: слишком много сознания в глазах. Отворачиваюсь от хомяка и раздеваюсь, инородное тело среди белой мебели под стиль королевы Анны, но с наклейками «Хелло, Китти». Кто такая, черт ее побери, эта «Хелло, Китти»? Насколько я понимаю, никак не Дженис Джоплин и не Грейс Слик.
Беру с кровати тощую стопку грубых полотенец, перебрасываю одно через плечо и следую по коридору в ванную. Там совершаю омовение (так я это называю) и под конец наливаю в пластмассовый стакан воду, которую наполовину расплескиваю по дороге к себе. Закрываю дверь, припираю ее стулом – замка нет, – и выкладываю свои таблетки на ночь. Никогда не думал, что буду пользоваться таблетницей с ящичками по дням недели, разделенными на ячейки для утра, дня и вечера. Как будто ношу с собой большую книгу таблеток – обернутую резиновой лентой, чтобы не раскрылась случайно.
Приняв таблетки, сижу на кровати. Половина одиннадцатого.
Решаю позвонить Джейсону, сыну тети Лилиан. Он все время у меня в мыслях, с самого ее посещения.
Вытаскиваю сотовый, раскрываю – здесь, в комнате, хороший сигнал, – и нахожу листок бумаги с номером Джейсона. Набираю.
– Алло? – отвечает мужчина.
– Джейсон, это я, Гарри, твой двоюродный брат.
Молчание.
– Я был у твоей мамы.
Молчание.
– Мы хорошо поговорили.
Из-за стены слышен голос жены, совладелицы пансиона:
– Чего?
– Ничего, – отвечает муж.
– Ты меня позвал по имени.
– Я молчал. Это тот постоялец из комнаты Лори, он с кем-то разговаривает.
– У себя в комнате?
– По телефону.
– Он тебе не кажется подозрительным?
– Нет, – отвечает муж, – не кажется. Это ты подозрительная: что ни день, а про кого-нибудь спрашиваешь, не подозрительный ли он. Такая подозрительная, что понять не могу, зачем тебе захотелось открыть пансион.
– Джейсон? – спрашиваю я. – Я тебе звоню по сотовому, ты меня слышишь?
– Да.
И снова молчание.
Что он думает, интересно, о том, зачем я звоню? Ему мать сообщила, что я к ней приходил? Не думает ли он, будто я ему звоню сказать, что у его мамы слишком много в холодильнике банок с истекшим сроком, что знаменитая жестянка с печеньем почти пуста и очень тревожит мысль, что она вообще, быть может, не будет больше полна?
– Джейсон, я звоню извиниться от имени всей нашей семьи. Не знаю точно, что случилось тогда в подвале, но я действительно прошу прощения.
– Я этого не помню, – говорит он.
– Как ты можешь не помнить? Твоя мать сказала, что это и сделало тебя геем.
– Ей необходимо думать, будто что-то «случилось», из-за чего я стал геем. Как будто недостаточно было жить с ней. В нашей семье геев полно.