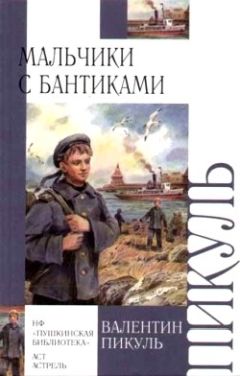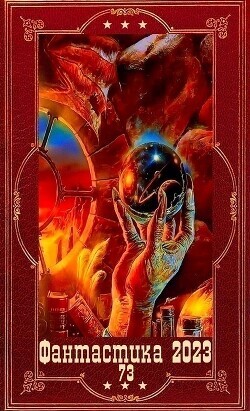Мальчики и другие - Гаричев Дмитрий Николаевич
У воды было ветрено, солнце уже истончилось, но лес оставался по-военному крепок; мой товарищ сказал: летом я видел лис в Воскресенском, еще молодых, а мои говорят, что не помнят такого с шестидесятых, когда здесь возникли ракетные части. Кабаны же всегда здесь водились, но теперь они запросто шастают по деревням, и никто им не удивляется: кабан и кабан. Природа пришла за нами, отвечал я, не будем противиться ей, а проследуем куда укажет; товарищ слабо смеялся и, отойдя к темному стволу, выбирал из расщелины дикий пчелиный воск. Он никогда не бывал особенно весел со мной, и, наверное, в этом лежал исток нашей разлуки: меня вырастили женщины, и я вечно лез к нему с женскими расспросами, жалостью и утешениями; теперь мне было важно не повторить этой ошибки. Я готов был простить ему всех его шкур, равно бывших и будущих, отпускать его на сейшена в гаражи и на дикие дачи к соратникам, никто из них все равно не помешал бы мне: он не мог быть ничьим еще, он мог быть только моим.
В честь случившейся встречи он отвел меня далеко: незнакомым путем мы поднялись к месту, где пруд сужался до тесной протоки, терявшейся в огромной траве. Здесь было царство атласных стрекоз, от их сине-зеленого трепета рябило в глазах. Над водой был устроен мост из железобетонной плиты, непонятно как донесенной сюда. Что будет, если пойти дальше, спросил я, готовый на многое; будет лес, безразлично ответил мой товарищ, что там еще может быть: лес, лисьи кладбища, волчьи гаражи, нас не слишком-то ждут там. Ты же видишь эту плиту: как она здесь взялась, где поднять накладные, а лежит, и истлеет еще не скоро; и мы смотримся в этом месте так же глупо, как и она, хорошо, что в нашем случае это хотя бы ненадолго. Я сказал, что, когда бы я мог, я бы задержался на этой земле пускай и в виде отбитой плиты, и тогда же в плотном лесу по ту сторону от протоки шарахнулся такой звук, будто бы в нем двигали мебель: натужный скрип и треск сминаемых ветвей. Как всегда в моменты страха, я вдруг разглядел все, что было вокруг, в самых мелких деталях и так понял, что ни один лист, ни одна паутина в лесу не шевелится; на мгновение я подумал, что все это засада и что весь долгий путь сюда я проделал затем, чтобы больше не вернуться домой и в университет, но мой товарищ спокойно сказал: лучше будет уйти, и не надо смотреть так убийственно прямо, ты не на взвешивании. Я послушался и опустил глаза, но и трава под ногами была так ужасно подробна, что я просто зажмурился и попросил взять меня за руку; в голове разлилась нефтяная темнота, я забыл, как я здесь оказался, и хотел только, чтобы этот чудовищный скрежет не прозвучал снова. Вернемся через дальний полигон, услышал я голос, это выйдет чуть дольше, зато надежней.
Я не помню, как долго я шел так, но, когда открыл глаза, мы стояли на светлой просеке, кое-где переваленной упавшими стволами; по оба ее края тянулись необобранные кусты ежевики, к которым мне не хотелось притрагиваться. Почему мы ушли, неудачно спросил я и тотчас поправился: что это было, меня давно так не пугали. Мой товарищ достал сигареты: ты же все слышал сам; было то, что ты слышал. Я взбесился: но кто, на хер, ворочает эти шкафы или что там еще, как это делается, отчего тебе сложно нормально сказать. Я не знаю, удивленно ответил товарищ, но, если тебе интересно, мы можем вернуться туда и попробовать выяснить вместе. Озлобляясь еще, я почти двинулся первым обратно к протоке, но почувствовал в воздухе перед собой словно бы ватную стену и остался где был. Ты как будто испытываешь меня, заговорил я пересохшим ртом, ты накопил себе навыков за полтора года и вот применяешь; но я не могу на тебя обижаться, ты не можешь представить, как пусто мне было. Он промолчал в ответ и наконец обнял меня; после того, что случилось, мне стоило усилий не разреветься в его жарких руках.
Он еще говорил о матери, о подделанной язве, о вечерней подвальной учебе, о приработках на коттеджном строительстве, о мотоциклах: он действительно много чего нахватался, пока мы были порознь, я же употребил это время неизвестно на что, и даже то, что я успел прочесть или выдумать и записать, казалось мне шелухой. Но за мной был филфак, куда меня привела, конечно, не столько любовь к чтению, сколько моя неспособность к любым более-менее точным наукам: наши девочки, съезжавшиеся со всей области, были так себе, но их было так много, что это не могло не настраивать на хищнический лад, и я, все еще заговаривая недавний испуг, начал рассказ о ничтожных сближениях, бывших у меня с ними за эти недели; чем дальше, тем больше я лгал и кривлялся, и, когда сам почувствовал, что все это стало просто смешно, признал наконец: ни одну из них я не держал даже за руку. Я не сомневался, отвечал мой товарищ, это бы тебя слишком обязало: ты бы не спал ночей, думая, что теперь с вами будет, как вы справитесь с этим у всех на глазах. Эта правда была, возможно, еще страшнее той, что скрывалась за бешеным звуком в лесу, и мне не оставалось ничего, кроме как рассмеяться; ты легко можешь нравиться им, поспешил он меня обнадежить, тебе разве что нужно быть понебрежнее и убрать эту штриховку над губой: я подумать не мог, что ты все еще это носишь. Я пообещал исправить все, как он сказал.
Перед сном я взял голое лезвие и соскреб с лица лишнюю поросль: я всегда боялся, что это непоправимо обезобразит меня, и в целом что-то такое и произошло, но это казалось уже неважно: зеркало говорило, что жизнь моя будет другой, может быть, не слишком уютной, но новой; мама, не знавшая, чем я был занят в ванной, ничего не сказала при виде итога, я счел это за добрый знак. Несмотря на сегодняшний долгий поход, мне никак не удавалось уснуть: я делал приседания, уходил к светлому от луны окну почитать бесполезный учебник, но все было впустую, и, не зная, куда еще деваться, я вышел на балкон постоять над холодным двором. Ночь гнала облака к полигону, с другого конца улицы, от общежитий, доносило уродливые голоса. В черной сныти под окнами переступали ворчащие кошки. Лес почти не читался во тьме за убежищами, и только срезáвшиеся облака выдавали его: помня, что мне было сказано, я стоял к нему боком, лицом во двор, чувствуя, как распухает его молчащее присутствие; наконец я понял, что сон одолевает меня, и потянулся к двери, а когда я уже входил в комнату, за спиной моей грянул опять звук перемещаемой мебели вместе с ветвяным треском. Пошатнувшись, я замер на мысках, но мне больше не было страшно; я вдруг догадался, что это не здесь: это мой слух был сейчас далеко, там, где через узкую воду перекинута одинокая плита.
Мы стали выходить, пусть ненадолго, почти каждый вечер, как в десять лет, когда мы впервые совпали на этой земле: в те времена в парке у пруда еще догнивали остановленные аттракционы, и, пока сюда не пригребали поздние посетители с жидкостями, мы могли лежать в их кабинах, как в лодках, разговаривая о планетах и живых мертвецах. Теперь здесь был устроен надувной вавилон, где молча бултыхались немногие дети: сезон завершался, прохожие голоса стыли в воздухе, отставая от своих хозяев. Мы по-прежнему гуляли с пустыми руками, нам было прекрасно и так; мы не боялись ни колдырей из девятиэтажек, ни гуртом возвращавшихся со стадиона борцов, к которым я сам был в недавние годы причастен: кто-то из них еще, наверное, мог опознать меня, но и этого не случалось. Только что состоялся Беслан, я читал «Новую газету» так же с карандашом, сжимаясь от ярости, но ни разу об этом не заговорил: то, что мы были рядом, казалось важнее убитых детей и всего, что об этом писали.
Когда сумерки затопляли деревья, мы вставали у самой воды без какой-либо видимой цели, хотя я и рассчитывал про себя, что в собравшемся мраке на том или этом берегу в нашу честь снова что-то раздастся, обрушится или блеснет. Все, однако, оставалось спокойно вокруг, и даже никто из вечерних бродяг так и не подступил к нам; в одно из таких стояний мой товарищ, обращаясь скорее к воде, чем ко мне, рассказал, что в последние месяцы его и смешит, и пугает странная расстановка в его голове: ты же знаешь, объяснял он, обычно внутри у тебя спорят два голоса: драться или бежать, продолжать или расстаться, и в итоге один берет верх, но другой никуда не девается, он остается, это понятно; но я слышу, что в их разговор то и дело вмешивается кто-то третий, и он нравится мне, так сказать, меньше всех: в нем какое-то бабье ехидство, которому толком не возразишь; это как в школе, когда над тобой потешаются ссыкухи, которые ходят вчетвером в туалет, и ты ничего не можешь сделать, кроме как тоже пойти в туалет и проломить там кулаком перегородку. А как ты поступаешь теперь, когда приходит этот третий, спросил я невпопад. Мой товарищ посмотрел на меня, глаза его тонко сверкнули: я курю, сказал он почти виновато и клацнул зажигалкой, разогнав слабую тьму у лица. Курил он много, и я мог только гадать, сколько из высосанных при мне сигарет были принесены в жертву этому третьему, которого я почти сразу представил себе в образе валета червей из русской колоды с одновременно пустым и пытливым взглядом.