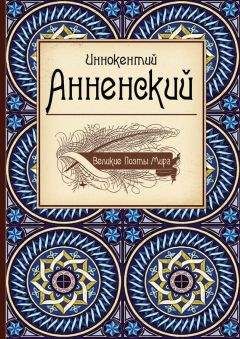Майгулль Аксельссон - Апрельская ведьма
Но, конечно, она сосала марлю. Только очень осторожно, так чтобы никто не видел. Она хватала марлечку здоровой рукой и проводила ею по губам — как велели сиделки, — но тайком приоткрывала рот, кончик языка высовывался и жадно скользил по редким ниткам. Внезапно он превращался как бы в отдельное существо, в жадного своевольного зверька, заставлявшего ее высасывать каждую каплю воды из компресса.
А в следующую секунду что-то желтое и зловонное поднималось откуда-то изнутри, тело конвульсивно сжималось, и огонь в ее ранах вспыхивал с новой силой. Но едва она открывала глаза, чтобы перевести дух от боли, толстуха уже стояла над ее кроватью, воздев кверху указательный палец.
— А я все видела, — говорила она. — Ты сосала воду. Сама виновата.
Кристина, сжав губы, глотала слезы.
— Да-да, — не унималась толстая. — Я-то видела. Я-то знаю, что ты сама виновата.
А в Кристининой голове это отдавалось далеким безумным воплем:
— Слышишь ты, дрянь такая! Это все ты виновата! Во всем виновата только ты одна!
***Черная кованая калитка взвизгнула, когда сестра Инга закрыла ее за Кристиной.
— Заходи, — сказала она, протянув ей руку.
У нее были васильково-синие зимние перчатки, точно такого оттенка, как пальто. У самой Кристины было светло-коричневое пальто и салатовые варежки. Она поняла, как это некрасиво, потому что в наступившей тишине все цвета словно сделались жесткими и острыми, они кололи ей глаза, будто песок. Знай она, как сделать мир черно-белым, как на фотографии, она бы это, сделала.
— Заходи. Не стесняйся, — повторила сестра Инга и взяла ее за руку. — Это просто моя невестка. И она очень милая...
Но Кристинина рука безвольно выпала из ее руки — такая мягкая и податливая, что удержать ее не удавалось. Девочка стояла оцепенев на садовой дорожке и словно не слышала. Потому что вот оно — свершилось, наконец она попала в свою фотографию. Этот черно-белый сад каждым своим оттенком походил на черно-белый мир, созданный в ее воображении. Все совпадало: рассветные сумерки и белая дымка, черные силуэты фруктовых деревьев на сером небе и тающая морозная глазурь на газоне. Это был сад для таких, как она. Садик для зимней принцессы.
Сестра Инга схватила ее за руку и потянула за собой:
— Ну пойдем же! Тебе нечего бояться...
Лестница оказалась огромной. И каменной. Совсем непохожая на деревянную лесенку веранды детского дома. Она не дрожала, когда ставишь ногу на ступеньку, а лежала тяжело и несокрушимо, как гора, ждущая восхождения. И свежевыметенная: след метлы виднелся на кучках снега по обеим сторонам кирпичных ступеней.
Сестра Инга позвонила в дверной колокольчик и открыла дверь, втолкнув Кристину впереди себя на маленькую лестничную площадку. Тут тоже все было из камня: пол — из серого, блестящего, а стены — из бледно-зеленого и пористого. Было похоже на больницу — на маленькую каменную больничку.
Сестра Инга поспешно стянула с себя бахилы — грязные резиновые чехлы, защищавшие ее туфельки на высоких каблуках от слякоти предзимья, и помогла Кристине снять резиновые сапожки. Потом громко постучала в коричневую дверь и открыла ее.
— Эй! — прокричала она в глубь квартиры. — Привет!.. Есть кто-нибудь дома?
От звука, донесшегося из-за двери, Кристину передернуло. Сигнал точного времени по радио и шипение сковородки. Эти звуки она научилась ненавидеть еще на кафельной детдомовской кухне — звуки тревоги и спешки. Звуки, такие же тошнотворные, как комковатое порошковое молоко в детдомовской кружке из нержавейки.
Но здесь радио поспешно выключили и сняли сковородку с огня, здесь освободилось пространство для человеческих голосов.
— Она почти ничего не ест. — Сестра Инга отвела с Кристининого лба упавшую прядку волос, потом расстегнула заколку и заколола снова. — И не говорит. Вообще не издает ни звука, только плачет...
Женщина по другую сторону стола секунду пристально смотрела в серые Кристинины глаза.
— Да-да, — сказала она. — Ну ничего. Болтовни на свете и так хватает...
Сидевшая рядом с ней девочка поспешно прижалась щекой к ее плечу.
— А сама-то болтаешь, Тетя Эллен. Ты все время болтаешь...
Эллен кончиками пальцев ухватила ее за нос.
— Ой, — сказала она. — У Маргареты опять нос мокрый!
Девочка хихикнула и отхлебнула большой глоток молока из своего стакана. Она съела одиннадцать тефтелей, Кристина сосчитала. Одиннадцать! Однако еще целая гора тефтелей возвышалась в большом салатнике на кухонном столике. Сама она съела только одну, прежде чем решительно, как всегда, отложить прочь вилку, приготовившись к привычным увещеваниям сестры Инги. Лишь в одном пункте она дала слабину: выпила почти целый стакан молока. Потому что молоко было настоящее, это сразу чувствовалось, а не комковатый порошок, разведенный водой из-под крана.
— Надеюсь, вы не против, — сказала сестра Инга, — что мы вот так заявились? Но на Рождество осталось только четверо ребятишек, и мы решили закрыться, а их взять с собой. Заведующая взяла двоих, и по одному мы с Бритой... А то в этом году у нас бы никакого Рождества и не было.
Она замолчала и разок погладила Кристину по голове.
— А она такая славная, с ней не будет никаких забот...
Эллен чуть улыбнулась, — Кристина успела разглядеть ее цветастый халатик и белые руки, грузно лежавшие на столешнице.
— Да какие там заботы, — сказала она. — Никаких забот...
Позже в тот день Кристина сидела одна в гостиной Тети Эллен. От жесткого, в узелках, ворса диванной обивки чесались ляжки — на Кристине не было трико, которое закрывало бы кусочек кожи между краем чулка и трусами.
В доме было совершенно тихо. Сестра Инга и Маргарета уехали на рынок за елкой, они уговаривали и Кристину поехать с ними. Но та упрямо качала головой и сделалась такой вялой и неуклюжей, что сестре Инге даже не удалось надеть на нее пальто.
— Она может со мной посидеть, — предложила наконец Тетя Эллен, и после шквала попреков и извинений сестра Инга удалилась.
И вот теперь Кристина сидела выпрямившись на диване и смотрела по сторонам. Ей нравилась эта комната, ее цвета явно ладили друг с другом, они не ссорились, не кричали, не пытались друг дружку убить. Бледно-желтый тон занавесок ласково терся о глубокий серый цвет дивана, тускло-золотистые оттенки ковра заигрывали с коричневостью низкого деревянного шкафчика у стены. Над шкафчиком висела большая картина, изображавшая золотой лес. Она влекла. Может, войти в картину и стать осенней принцессой вместо зимней... Но нет, ей хотелось оставаться в этой комнате, в этом доме, в этой тишине, которая словно делалась только глубже от энергичного тиканья настенных часов.