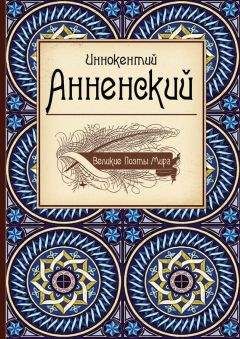Майгулль Аксельссон - Апрельская ведьма
За вечер до кануна Иванова дня она расплакалась от страха, пока складывала в новенький кожаный чемодан аккуратно выглаженные летние наряды. Что толку, что ее лучшее ситцевое платье благоухает свежестью? Что толку, что отполированные ногти сверкают, как перламутр, и что у нее новая, так идущая ей стрижка? Ведь сегодня это должно произойти, конечно же, иначе Эрик никогда бы не пригласил ее на Иванов день к своим родителям в их летний домик в шхерах. Ко многому из неизбежно ожидавшего ее Кристина была готова: к снисходительной любезности высокомерных буржуа к выскочке, к завуалированным вопросам сестер о ее родне и к поднятым бровям родителей, услыхавших ее односложные ответы. Но тогда на ее стороне конечно же будет Эрик, она знала это, он уже начал подшучивать над опасливыми вопросами своей мамы насчет «Кристининого печального прошлого». Но снесет ли он ее невинность? Или, испугавшись, отступится? Или даже вообще отвернется от нее с презрением?
Потом казалось, будто тело все решило само. Правая рука вытянулась вперед и опустила шторы, ноги принесли ее к комоду, с которого правая рука схватила ручное зеркало, пока левая расстегнула юбку, и та упала к ногам. Тут правая рука отодвинула в сторону чемодан, а тем временем левая стянула трусы. Правая нога сама собой взметнулась, уперевшись пяткой в край кровати, а указательный палец правой руки, сомкнувшись со средним и безымянным, превратился в хирургический инструмент. Глаза сами собой зажмурились.
Когда все было кончено, она схватила зеркало и осмотрела свою промежность. Казалось, она осматривает постороннюю женщину, и — да, теперь очевидно, что данная женщина имела сексуальный опыт, пусть и небольшой. Крови почти не было. Теперь быстро ополоснуться — и никаких следов. И вообще — ничего не произошло...
По пути в ванную она глянула на свои пальцы. Вдоль ногтевого валика и в складках кожи на суcтавах толстыми красными полосками застыла кровь. Ее шатнуло от отвращения, и она едва не грохнулась: последние несколько шагов до ванной ей пришлось идти, держась за стенку, она заперлась там, не включая света, ощупью нашла холодный кран и полоскала, полоскала и полоскала руки, покуда пальцы совсем не занемели от холода.
Зато, когда на следующее утро Эрик поставил машину возле ее дома, она помчалась вниз по лестнице как на крыльях. Это был фантастический день: небо над Вадстеной было голубым, как одеяние девы Марии, листва берез серебрилась на солнце, и дышалось так легко.
— Отчего это ты такая радостная? — с подозрением спросил Эрик, когда они встретились на тротуаре. — Что-то изменилось?
— Да нет, — отвечала она своим обычным сдержанным тоном. — Просто настроение хорошее, вот и все...
Потому что у меня есть мужчина, подумала она впервые в жизни. Я заплатила положенную цену — и теперь у меня правда есть мужчина!
В доме Тети Эллен никто не ожидал, что у Кристины когда-нибудь появится мужчина. В том числе и она сама. Подростком она сутулилась, стесняясь и тяготясь своей женской природой, и всячески старалась как-нибудь ее спрятать. Кристининой участью была ежемесячная дурнота и боль, от которых она каталась по полу, а потом ее колотил такой озноб, что спасало только двойное одеяло и грелка, а Маргарета с Биргиттой тем временем начесывали копну у себя на голове, готовясь завоевывать мир оружием юных женщин.
Злосчастное это было время. Теплым летним вечером, пытаясь согреть ледяные руки о завернутую в грубый шерстяной носок бутылку из-под сока, которую Тетя Эллен, наполнив горячей водой, засунула ей в постель, Кристина припоминала лучшие свои дни: экзамен в первом классе, когда ее впервые отметили за успешную учебу, дымчато-серое воскресное утро на кухне — и как тает масло на булочках, испеченных Тетей Эллен к завтраку, тихие летние вечерние игры в саду под вишнями.
Быть маленькой девочкой в доме Тети Эллен было так просто. Просто и спокойно. Все, что требовалось, — это хорошо кушать, слушаться и позволять о себе заботиться. Именно в такой последовательности. Кристину все это вполне устраивало: еда тети Эллен таяла у нее во рту, требования к послушанию казались вполне резонными, а забота доставляла физическое наслаждение. Если Биргитта орала и вырывалась, когда Тетя Эллен упорно пыталась умыть перед обедом ее грязную мордашку, то Кристина, когда подходила ее очередь, блаженно прижималась к Тетиному животу. Биргитта жаловалась, что у Тети Эллен слишком жесткие руки, а Кристине сама эта жесткость казалась приятной. Была у них в детском доме одна нянечка с очень ласковыми руками. И всякий раз как эта женщина к ней приближалась, Кристина подымала истерический крик; она верещала, покуда нянечка, не выдержав, не ухватывала ее как следует. Лишь тогда Кристина давала себя вымыть. Но продолжала орать — на всякий случай.
Кроме этого обряда купания, о детском доме она мало что помнила — разве что большую комнату с высокими окнами и кроватками в ряд. В памяти все это было белое — стены, кровати, свет, сочившийся сквозь ветки берез в палисаднике. Лишь изредка в голове у нее вспыхивали мгновенные образы: вот мальчик обнимает мишку с оторванной лапой, вот девочка в пальто и зимних ботиках обернулась в дверях и смотрит на Кристину, вот совсем крохотная девчушка плачет, что ей не дали сосать угол одеяла: «Одеялко мое, где мое одеялко?» Эти воспоминания казались бессмысленными, безымянными и бессвязными, так что пересказать их было невозможно.
То же было и в больнице. Все, что она смогла вспомнить, это убаюкивающий шепот и белые пальцы, нажимающие на поршень шприца. Нет-нет, еще она помнит одну женщину — больную из общей палаты, куда Кристину перевели уже позже, — жирную старуху, которая говорила не умолкая и все время бродила от койки к койке, комментируя вслух состояние и методы лечения других пациентов. Пятилетняя девочка с ожогами ее особенно занимала.
Хуже всего была жажда. На случай боли имелись шприцы, от их уколов Кристина воспаряла над всеми мучениями, — но от жажды не было лекарства. Капельница поможет, говорили облаченные в белое существа на границе реальности и забытья, но капельница не помогала. Язык опухал, покрываясь толстой слизью, губы трескались, и горло саднило так, что каждый вздох превращался в свист. Ее жажда в конце концов превратилась в пытку даже для тех, кто просто смотрел на девочку, ей стали приносить воду и ставить возле кровати — воду с маленькими кусочками марли. Считалось, что нужно класть Кристине на губы марлевые компрессы, чтобы облегчить страдания. Положив марлю, существа в белом наклонялись к ней и приказывали: «Мочи губы, но марлю сосать не смей. Что хочешь делай — но не соси!»