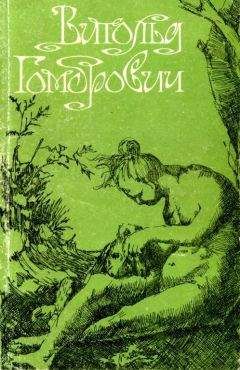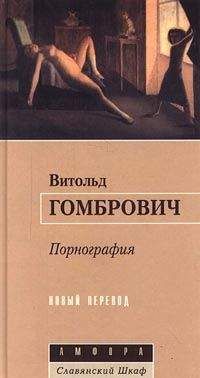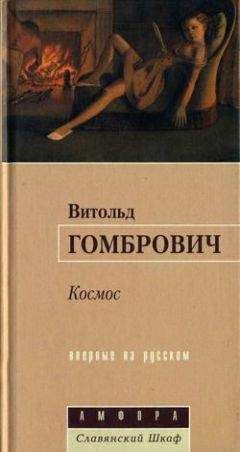Витольд Гомбрович - Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника
Она остановилась.
— Посмотрите вокруг. Как прекрасно!
Он ответил:
— Да, несомненно. Весьма. Прекрасно.
Сказано было, чтобы ей поддакнуть.
Она вздрогнула от неожиданно вспыхнувшего раздражения. Ведь ответ — пусть даже обстоятельно и с чувством высказанный — но с чувством актера — был не по существу, поскольку являл собой подмену настоящего ответа. Она же добивалась неподдельного восхищения вечером, который был творением Бога, и хотела, чтобы он возлюбил Творца по крайней мере в его творении. Ее чистота замкнулась в этом желании.
— Но, право же, вы только взгляните, скажите. Разве это не прекрасно?
Призванный к порядку, он сосредоточился, явно напрягся и сказал действительно со всей откровенностью, на которую был способен, даже несколько взволнованно:
— Ну конечно, несомненно, прекрасно, да, замечательно!
У нее не могло быть претензий. Видно было, что он прилагает усилия, чтобы она осталась довольна. Однако это была его роковая особенность: когда он что-то говорил, то казалось, что он говорит лишь затем, чтобы не говорить чего-то другого… Чего? Амелия решила раскрыть карты и не сходя с места заявила:
— Вы — атеист.
Прежде чем высказаться по столь деликатному предмету, он бросил взгляд налево, направо, как бы проверяя общество. Он сказал… потому что должен был сказать, потому что ничего другого не мог сказать, ответ был продиктован вопросом:
— Да, я атеист.
Но он снова говорил лишь затем, чтобы не сказать чего-нибудь другого! Это чувствовалось! Она замолчала, как будто ее лишили возможности полемизировать. Если бы он и в самом деле был неверующим, она могла бы с ним бороться и тогда она показала бы всю самую глубокую «предельность» собственной правоты. О! Тогда бы она боролась с ним на равных. Но ему слова служили для сокрытия… чего-то другого. Но чего? Чего? Если он не был ни верующим, ни неверующим, то чем же он был? Открывалось пространство неопределенного, этого странного «другого», в котором она, ошеломленная и выброшенная из игры, терялась.
Она свернула к дому, а все мы — за ней, отбрасывая километровые тени, которые, стелясь по лугу, достигали неведомых нам далеких мест где-то у края стерни. Чудный вечер. Она была — я мог бы поклясться — испугана. Она шла, уже не думая о Фридерике, который, впрочем, неотлучно, как собачка, сопровождал ее. Шла, выброшенная из игры… похожая на человека, у которого выбили оружие из рук. На ее веру не нападали — ей не надо было защищать ее. Бог становился излишним перед лицом атеизма, служившего ширмой — и она почувствовала себя одинокой, покинутой Богом, могущей лишь в себе найти опору, поставленной перед лицом того существования, которое было основано на каком-то другом принципе, и которое постоянно ускользало от нее. И именно эта неуловимость компрометировала ее, ибо показывала, что на ровной дороге католический дух может встретиться с чем-то таким, чего он не знает, чего не предвидел, чем не овладел. Кто-то посмел трактовать ее неизвестным ей образом — и она представила себя чем-то непостижимым для Фридерика!
В тот вечер наша прогулка змеей растянулась по лугу. Чуть за нами, наискосок, по левую руку, шли Геня с Вацлавом, оба весьма благовоспитанные, цивилизованные, украшенные своими семьями, он — сын своей матери, она — дочь своих родителей; и телу адвоката не было плохо с шестнадцатилетней, имея при себе в итоге двух матерей и отца. А Кароль шел сам по себе, рядом, руки — в брюки, скучал, а может и не скучал, а так просто переставлял ноги по траве, левую, потом правую, потом левую, потом правую, потом левую, потом правую, потом левую, в пространственно-зелено-луговом ничегонеделании под садящееся, закатывающееся солнце, оно пригревало, а прохладный ветерок обдувал — и так он переставлял ноги туда-сюда, туда-сюда, временами замедляя шаг, временами ускоряя, пока в результате не поравнялся с Фридериком (шедшим с пани Амелией). И какое-то время они шли рядом. Кароль завел разговор:
— Дали бы вы мне старый пиджак, а?
— Зачем он тебе?
— Надо. Торговать.
— Мало ли, что тебе надо.
— Надо! — нагло канючил улыбающийся Кароль.
— Тогда купи, — ответил Фридерик.
— Денег нет.
— У меня тоже нет.
— Дал и бы вы мне пиджак!
Пани Амелия прибавила шагу — Фридерик тоже — и Кароль тоже.
— Дали бы вы мне пиджак!
— Дали бы вы ему пиджак!
Это была Геня. Она нагнала нас. Жених немного поотстал. Она шла с Каролем, ее голос, движения, такие же, как у него.
— Дали бы вы ему пиджак!
— Дали бы вы мне пиджак!
Фридерик остановился, комично поднял руки вверх: — Ребята, пощадите! Амелия уходила все быстрее, не оглядываясь на них, казалось, что за ней гонятся. Действительно — почему, например, она ни разу не обернулась — эта ошибка привела к тому, что теперь она как бы бежала от несовершеннолетних шалопаев (тогда как ее сын остался где-то на заднем плане). Но вот вопрос: от кого она убегала, от них или от него, от Фридерика? Или также от него с ними? Казалось маловероятным, что она что-то разнюхала из делишек, что были между подростками, нет, на это у нее чутья не было, а кроме того, они были для нее чем-то второстепенным, потому что Геня имела значение только при Вацлаве, в качестве его будущей жены, но Геня с Каролем — были всего лишь детьми, подростками. Поэтому, если уж она и убегала, то от Фридерика, от непонятной ей неожиданно появившейся здесь, рядом с ней, и нацеленной в нее фамильярности, которую по отношению к нему допускал Кароль… потому что мужчина, к которому приставал мальчишка, разрушал и терял с ним всю значительность, которую он было создал в себе по отношению к ней… К тому же эта фамильярность была усилена голосом невесты ее сына! И бегство Амелии было признанием того, что она заметила это, приняла к сведению!
Когда она удалилась, эти двое перестали приставать к Фридерику насчет пиджака. Не потому ли, что она удалилась? Или потому, что выдохлась их веселость? Нет нужды добавлять, что Фридерик, хоть и потрясенный атакой молодежи и выглядевший абсолютно так, как выглядит человек, который едва унес ноги от шайки в ночном пригороде, принял самые большие меры предосторожности, чтобы случаем не разбудить какого-нибудь «волка в лесу» — того волка, которого он не знал, но которого всегда боялся. Сразу же присоединившись к Иполиту и Марии, он собрался «заговорить» эти несоответствия и даже обратился к Вацлаву, чтобы с ним пуститься в обычный, разряжающий обстановку разговор. Весь остаток вечера он держался трусливо, даже не смотрел на них, на Геню с Каролем, на Кароля с Геней, и стремился к разрядке и спокойствию. Наверняка, он боялся того возбуждения глубины, которое вызвала в нем Амелия. Он боялся его именно в сочетании с неизбежной и молодой легкостью, легкомысленностью, он чувствовал, что эти два измерения не могут сосуществовать, а потому он опасался взрыва и вторжения… чего? Чего? Да, да, он опасался гремучей смеси, этого А (т. е. «Амелия») умноженного на (Г+К). А стало быть надо держаться тише воды ниже травы! Более того, он так далеко зашел, что во время ужина (прошедшего в семейном кругу, поскольку львовским беженцам подали наверх) он поднял тост за новобрачных, желая им от всего сердца всяческих успехов. Трудно быть более корректным. К сожалению, здесь дал о себе знать тот механизм, благодаря которому Фридерик готов был заходить тем дальше, чем больше он отступал — но на сей раз все произошло совершенно стихийно, даже — драматично. Уже само его вставание, выделение его персоны среди нас, сидящих, вызвало нежелательный переполох, а пани Мария не смогла удержаться от нервического «ах» — поскольку было неизвестно, что конкретно он скажет, что он может сказать. Но, приправленные юмором, первые фразы прозвучали успокаивающе, были традиционными; помахивая салфеткой, он поблагодарил за то, что скрасили жизнь старого холостяка столь волнующим обручением, и в нескольких круглых фразах мило охарактеризовал жениха с невестой… и лишь по мере продолжения речи за тем, что он говорил, начало расти то, чего он не говорил, ах, вечно все та же история!… И в конце, к удивлению самого оратора, оказалось, что содержание служит лишь для отвлечения нашего внимания от истинной речи, заключающейся в молчании, вне слов и выражающей то, чего слова не охватывали. Сквозь вежливые обороты проговаривалось само его существо, ничто не могло стереть этого лица, этих глаз, выражающих какой-то неумолимый факт — а он, чувствуя, что становится страшным, а потому и опасным для самого себя, разве только не вставал на голову, чтобы быть приятным, и упражнялся в миротворческой риторике в архиморальном, архикатолическом духе, говоря о «семье как ячейке общества» и о «многочтимых традициях». Но в то же самое время и Амелии, и всем присутствующим бросалось в глаза его лишенное иллюзий и неизменно присутствующее лицо. Сила его «речи» была воистину невиданной. Это была самая громоподобная речь изо всех, мною слышанных. И было ощутимо, как заключающаяся в замечаниях на полях и между строк, в даваемых за скобкой пояснениях сила произносимой речи уносит оратора как конь!