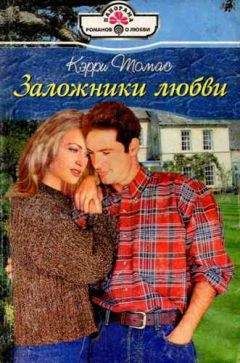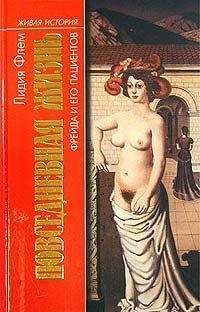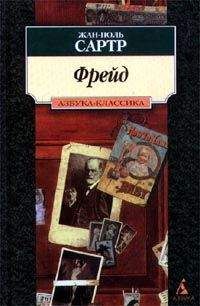Д. Томас - Вкушая Павлову
Я позвонил фрау Иде и сообщил, что мы принимаем ее приглашение.
— Если погода позволит, — сказала она, — мы расположимся в саду.
— Это будет очень мило.
— Надеюсь, атмосфера не будет напряженной. У меня все еще сомнения; папа никак не мог решиться, пришлось надавить на него. Хотя он скучает без вас — обоих. Но проблема тем не менее остается… вы знаете.
— Знаю. Влечение, — проговорил я.
— И мама может уйти в себя.
— Нам тоже будет нелегко. Но я прихвачу одну вещь, которая должна помочь.
Все две недели, предшествовавшие нашему мероприятию, Марта была холодна и держалась особняком. Ничего личного, сказала она, просто нервы.
глава 28
Очень легко могу предсказать реакцию фрейдистов на эту книгу. Будучи благодарными за откровения по поводу Эмануила и происхождения Марты, поскольку они якобы проливают свет на мои романтические представления об индустриальной Англии и открытие эдипова комплекса, эти люди откажутся поверить, что я мог вести себя так ребячески, так сверхэмоционально, так непоследовательно, как вел себя Фрейд, изображенный мной в эпизоде с Бауэром. Если только я не бредил под воздействием морфия, то пытался изобразить некоторые из своих психических особенностей, в частности мазохизм, и изобрел для этого символическое действие.
Они укажут на то, что «Леонардо», по моему же признанию, был чем-то вроде романа; поэтому, когда я обнаружил, что в переводе вместо сокола ошибочно стоял ястреб, то даже не позаботился о том, чтобы исправить свой текст.{118} Точно так же я пожелал назвать свою последнюю работу, «Моисей и монотеизм»{119}, историческим романом. Моисей-египтянин! Принесенный в жертву его последователями! Господи Иисусе!..
(Что касается той книги, то я получил настоящее удовольствие оттого, что написал нечто обидное для большинства евреев; представляя себе их физиономии, когда они будут это читать, я почти забывал о мучившей меня боли.)
Диагноз будет таков: в своих «мемуарах» я в беллетристической, напыщенной манере сообщаю читателю, что моя жизнь с Мартой была не такой уж гладкой и я ни в коей мере не оставался слеп к ее абсолютной заурядности, которая тем не менее совершенно невероятным образом не помешала ей оставаться самой собой.
Другие, возможно, будет исходить из того якобы объяснения, которая дает Елена Дейч в своей статье 1921 года «О патологической лжи», а скорее даже в редакции этой статьи, не предназначавшейся для широкой публики и представленной на следующий год в узком кружке. Как вы, конечно, помните, она там пишет, что один «в высшей степени заслуживающий доверия врач» измыслил ситуацию совершенно неправдоподобного «любовного треугольника», в существование которой почти что уверовал сам; с ним случилось «временное психическое помешательство» от страха за сына, или, если быть точным, «от страха, что его бессознательные разрушительные желания в отношении сына могут самым ужасающим образом осуществиться. Он знал, что, случись это, чувство вины и скорбь станут для него непосильным бременем, а поэтому искал спасения во лжи».
Педанты отвергнут саму мысль о том, что у меня мог произойти нервный срыв. Они скажут, что фрау Дейч, как это часто с ней бывало, писала о самой себе. Никто другой, заметят они, не оказывался постоянно одним из углов самых разных треугольников: то с ее отцом и ее любовником Либерманом, то с Либерманом и его несчастной женой, то с Либерманом и Феликсом, то с Феликсом и его бисексуальным другом Паулем, с которым она тоже спала. Ни у кого другого не было столь двойственных чувств к детям: аборт, когда она забеременела от Либермана; таинственная смерть едва родившегося либермановского отпрыска, зачатого в то время, когда любовник Елены утверждал, что его брак стал платоническим, и, возможно, убитого матерью из чувства мести; безумная любовь к собственному сыну Мартину и одновременно пренебрежение им. К тому же она всегда рассказывала друзьям о своих несуществующих романах.
Все это — неоспоримая истина. Даже двадцать лет спустя Елена могла расплакаться, вспоминая о смерти либермановского сына, сначала проклинаемого (как же, ведь он скреплял негодный брак ее любовника), потом обожаемого (в своих фантазиях она представляла себе, будто он — их общий ребенок, и надеялась, что хворая фрау Либерман может умереть), а потом горько оплаканного (но к этой скорби примешивалось и негодование, поскольку Либерман был вынужден утешать свою супругу).
Но хватит о фрау Дейч. Закованной в тугой корсет и разодетой в шелка и с глазами вечно на мокром месте. Хватит — а то кое у кого возникнут подозрения, что я пытаюсь скрыть, будто каким-то боком участвовал в ее отношениях с Феликсом. Они дознаются, что в один прекрасный день Елена остановилась у нашего дома и сказала себе: «Ах, эта бедная фрау профессорша!» Может быть, Фрейд был ее постоянным любовником, а когда она как-то и в бедном Феликсе нашла что-то привлекательное, приревновал ее? Должен признать, что Елена каким-то мистическим образом уже прокралась в это повествование.
Что же касается сонма моих врагов, то они с радостью поверят в историю с Бауэром и отвергнут все, что могло бы оправдать мое дурное поведение — будь то провокации Марты или тот факт, что я искренне желал ей счастья.
Возвращаясь к вопросу правды и лжи в этих воспоминаниях, буду честным: иногда я добавлял немного художественного вымысла. Например, Марта никогда не спала с Эли. Таким образом я хотел показать мою ревность, потому что они действительно испытывали влечение друг к другу. Я использовал ложь символически, для защиты, ради драматического эффекта, из-за недовольства моей тихой, небогатой событиями жизнью и из свойственной мне склонности повалять дурака.
А еще потому, что все мемуаристы лгут, притворяясь честными. Я же предпочитаю дать ученым мужам (этим блохам на голове исполина) возможность сверить даты и все прочее и провозгласить, посверкивая стеклами очков: «Этого быть не могло!»
Но что касается этого, истории с отцом Доры… Эрос — могущественный бог: вот все, что я могу сказать. «Тот еще парнишка!», как сказала однажды моя восхитительная «Кэт». А Психея была «той еще девчонкой»!
Она, поэт и женщина, была моим alter ego. Я рассказывал ей обо всем, в том числе и о l'affaire Bauer[16]. Кажется, она поняла. По ее мнению, фрау профессорша не понимала меня, потому что, как большинство людей, была жаворонком, тогда как я, подобно отцу Кэт, астроному, был совой и лучшие свои работы сделал ночью.
День воссоединения с Филиппом Бауэром выдался благодатно теплым и безоблачным, и обнесенный стеной сад фрау Иды купался в солнце. Радушие Бауэра при встрече показалось мне немного натужным — в белом костюме и соломенной шляпе вид у него был необыкновенно бодрый и довольный. Кете встречала нас куда более сдержанно. На ней было бледно-лиловое платье, соответствующее ее блеклой личности. Ида — я чуть было не сказал Дора — была в ярко-розовом, и этот цвет гармонировал с ее молодой кипучей энергией; и тем не менее, на мой вкус — не говоря уже о Бауэре, — там была только одна женщина, пробуждавшая, несмотря на свой возраст, желание: моя Марта, которая провела все утро, наводя красоту и одновременно сетуя на ее отсутствие.
Она и в самом деле, как я уже говорил, не была красавицей; она стала, можно сказать, почти уродливой. «Старой и уродливой» — как говорили о ее матери Монике. Но, вероятно, и Моника могла бы выглядеть привлекательной, если бы, натрудившись за день, не валилась с ног от усталости и могла себе покупать красивые наряды и косметику.
Постойте. Я начинаю уставать от этой jeu d'esprit[17], связанной с рождением Марты. Должен признаться, ее новая генеалогия — чистой воды вымысел. В той главе не было ни слова правды, если не считать, что ее отец и в самом деле сидел в тюрьме за мошенничество. Начинаю понимать, как мои пациенты попадали в ловушку «творческой» лжи и как легко к ней приспособиться — ведь она предоставляет определенную свободу. Этот же импульс может привести к преступлению: герр Бернайс, например, мухлевал со своими банковскими счетами… И это сын гамбургского раввина! В любом случае, я признаюсь во лжи: Марта не была дочерью Моники от Якоба Фрейд Жуана{120} и никогда не жила у Паппенхеймов. Росла она в совершенно нормальной атмосфере, то есть хотела родить ребенка от своего отца и испытывала жгучее чувство ревности к своей ограниченной, вечно недовольной, деспотичной мамаше.
А откуда взялась эта ложь?.. Вероятно, я мечтал оттрахать мою старую няньку и обрюхатить ее. Но на самом деле это больше похоже на гипертрофированное воображение. Мне надо было родиться Рабле или Сервантесом.