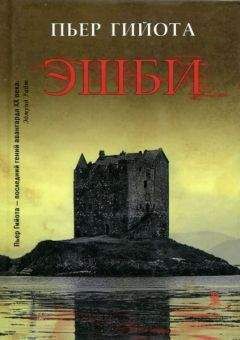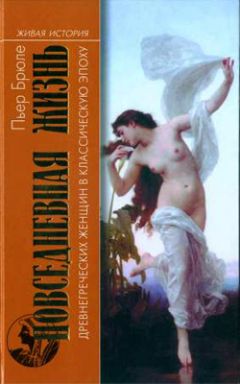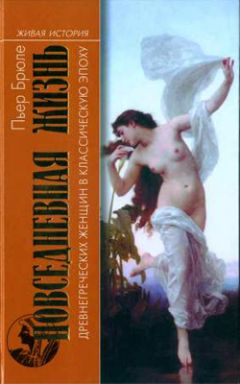Пьер Гийота - Воспитание
Когда после рождественских каникул возобновляются занятия, меня назначают руководителем шефской организации в Ла-Рикамари, между Сент-Этьеном и Фирмини, в долине Ондены: каждый четверг я отправляюсь на поезде в Сент-Этьен, где пересаживаюсь в автобус.
В свои четырнадцать я обязан целый день заниматься парнями нередко старше себя. Однако я обучен, хорошо образован, а значит, могу руководить вместе с другими этой группой детей и подростков из рабочих семей: мы поднимаемся в заросли дрока, бегаем, играем на феодальных развалинах в следование по маршруту и с песнями спускаемся в долину меж засаленными сланцевыми скалами; а главное, я привожу шоколад, который отец покупает моей матери в сент-этьенском «Вайсе» между заседаниями Генерального совета и который она больше не ест.
Я изо всех сил держусь целую четверть. После чего говорю отцу Сантенаку, что не суждено мне командовать другими: претит это социальное превосходство, которое считается в коллеже заветной мечтой.
На Пасху отец дарит мне первый велосипед, красный «партнер», на который я тотчас сажусь, чтобы в одиночку одолеть два-три перевала в окрестностях Бург-Аржанталя: наконец-то один, пока мухи и черви копошатся в моей волокнистой сперме на траве вверху, я спускаюсь обратно, настолько переполненный сексом и поэзией, - «оргиастические» листки свернуты на дне портфеля, в груде мха, камней, шин, - что я больше не могу говорить с отцом и даже с матерью, - которая смотрит и слушает уже рассеянно, - и впредь буду говорить с ними все реже и реже.
Единение тела с этим новым механизмом, влияние веса на скорость, особенно долгий и затяжной разгон демультипликатора, усилие и следом за ним немедленный результат, воздух, расщепленный на все оттенки ароматов, переход от травы к деревьям, от цветов к скоту, от навеса к навозу, от молока к кофе, от белья, что сушится на скалах, к перегретому вереску, от бензина к вину, от тени к свету, от холода вверху к теплу внизу, и все это за каких-то пару минут, под негромкий шелест спиц и чмоканье покрышки об асфальт; а также занос на повороте, на щебенке, и падение в заросли дрока и ежевики, откуда поднимаешься с дрожью, но с гордостью; вождение на ровной дороге, не касаясь руля, пожирание расстояний, звуков, деревень...
*
Великая французская и всемирная драма того года -майское поражение французской армии при Дьенбьенфу[276] после пятидесяти шести дней осады, и конец французского Индокитая по итогам Женевских соглашений[277], подписанных Чжоу Эньлаем[278] и Пьером Мендес-Франсом[279]; конец Французской империи.
В июле наша тетка Сюзанна везет меня в Париж, который я вижу впервые: из окна такси, доставляющего нас с Лионского вокзала на Университетскую улицу, где у нее квартирка, чернота Парижа поначалу меня разочаровывает: много заводов, цехов с дымящимися трубами в самом центре города; на следующий день все эти черные изваяния в мокрой от дождя зелени, эта ночь средь бела дня, величавая феерия державности...
Мы ужинаем в китайском ресторане на улице Мсьё-ле-Пренс, с верными боевыми подругами, воевавшими против Гитлера, француженками, англичанками, американками.
Я дарю ей свою гуашь с нашей родной деревней - вид из наших окон: одна ее подруга, иранский дипломат, увидев рисунок на стене теткиной квартиры, называет его олицетворением Франции, тетка дарит ей картинку, и подруга увозит ее домой в Тегеран: я еще долго воображаю, как мое маленькое творение, нарисованное всего за пару часов, летит над Востоком, а затем лучится в темной нише свежей зеленью, текучим багрянцем.
Наша мать покупает сразу после ее выхода «Историю Виши» Робера Арона[280], которую я читаю и перечитываю, иногда в присутствии матери. Из этой книги, основанной на доступных тогда архивных документах, я узнаю о позорном «Французском государстве», что выдает либо приказывает выдавать нацистам евреев, находящихся в его административной компетенции, в возмещение, в уплату за несбыточные преимущества, точь-в-точь как выбрасывают балласт, дабы не пойти ко дну либо подняться в воздух.
*
Наш учитель математики, отец Тренкье, рослый, чуть кособокий, лохматый брюнет, с ярко горящими глазами и вечной меловой пудрой на бровях, а также на длинной латаной сутане, доходящей до огромных горных башмаков, всегда немного расшнурованных, однажды вызывает меня в свою большую комнату, там полный кавардак. Я вхожу в коридор с облупившейся картиной, поправляя свои очки «амор», а он становится передо мной и спрашивает, в волнении роняя из больших волосатых рук мел, когда же я наконец соизволю явиться на урок математики.
Я уже пару дней читаю «Отелло» в карманном выпуске «Ларусса», который ношу с собой, - я вижу Отелло, Яго, Дездемон повсюду, в самых близких знакомых, и наделяю неистовыми страстями этих спокойных людей, воображаю, как Яго разжигает ревность в Отелло на площадке над водой рядом с кинотеатром «Риотор», где когда-то давно женщина убивает своего любовника, - и перечитываю пьесу в обработке Альфреда де Виньи: «Венецианский мавр».
Я говорю об этом учителю и рассказываю о Яго, Кассио, Дездемоне, Венеции, и тут он подходит к своему книжному шкафу, достает оттуда два тома шекспировских пьес в переводе Пьера Мессиана[281] и листает передо мной страницы со вздохами и восклицаниями: «Макбет», «Гамлет», «Ричард III», «Сон в летнюю ночь», «Антоний и Клеопатра», «Юлий Цезарь», откуда он зачитывает надгробное слово Марка Антония, и когда я спрашиваю, почему эта речь написана не по-латыни, он треплет и гладит меня по щеке.
Святой отец одалживает мне оба тома, которые я забираю в класс и храню у себя в парте, второй слева в центральном ряду; мой сосед слева, Люсьен, из семьи армянских коммерсантов, живущих в Фирмини, брюнет с нежными глазищами и коричневыми кругами под ними - благожелательный читатель первых стихов, которые я пишу в убеждении, что это и есть моя судьба: затем, пару дней спустя, «Моисей», об одиночестве мыслителя; я смотрю на своего товарища и принимаюсь отыскивать на его лице, руках отпечатки резни, в которой погибли его дед и бабка: неужели раны от турецкой сабли, топора и ножа, следы удушения, да и самого тления не передаются по наследству?
*
В антологии «Лагард и Мишар»[282] за XIX столетие, которую старший ученик показывает мне в фойе, где мы репетируем «Женитьбу Фигаро», - я дублирую роль Керубино, - я вижу и читаю первую строфу «Пьяного корабля»[283], а затем, сняв костюм и покинув сцену, уношу том в учебный зал, где читаю стихотворение уже целиком: мое сердце бьется все чаще внутри ярко озаренной груди, я выбегаю и трижды обхожу территорию коллежа, тяжело переводя дух. Я мчусь по крытой галерее, перед нужниками: отныне я больше не буду прятаться, во мне есть сила, факел, ораторская сцена, театральный мрамор. Небесные врата не превозмогут ее. Я затыкаю руками уши, чтобы не слышать больше пения птиц на закате: поэзия - вопрос мышления.
Я хочу рисовать, стать художником, и от натуры перехожу к композиции: в числе прочего я пишу маслом на большом прямоугольном панно из толстого дерева экзотическую сцену: на берегу темных вод, в лесной чаще с лианами, два разделенных заболоченных рукава реки.
На переднем плане женщина океанийского типа, солнечный луч пронизывает и затуманивает ее абсолютную наготу; на заднем плане, меньших размеров в соответствии с перспективой, мужчина в набедренной повязке держит в руках охотничий трофей.
Мое лицо, мое тело меняются, я должен постоянно носить очки, которые делают мир тусклее, - значит, истинный свет во мне.
В классе рисунка, под самой крышей, я рисую углем круглую скульптуру: античные бюсты с градацией теней от серого к черному: Афина в шлеме, Афина без шлема, юный Нептун, Венера, Перикл и прочие - все с греческим профилем. Покончив с бюстом, я рисую для себя.
Мое лицо теперь обозначается, выделяя меня в обществе, раскрывая внутреннюю жизнь моей воли и мое отличие от родителей: у меня больше нет того смазливого личика всеми любимого ребенка, какое было у моих дядьев по материнской линии, его уничтожили нацисты - но оно все еще сохраняется у нашей матери.
Во мне больше нет той заурядной красоты, что соответствует моему коммунальному духу, «борделю», хоть я пока и не знаю, чем там занимаются.
Моя сущность, которую я считаю скрытой, становится теперь явной, прежде чем я начинаю говорить (из сына Божьего я превращаюсь в сына человеческого). Эта внешность, форма ускользает от меня, от моей воли, из-под моего контроля - что же мне с этим делать?
На территории коллежа все вокруг меня тоже преображаются, некоторые от этого страдают, другие - нет: у меня не те черты и тело, каких мне хочется. Лишь девушка, девушки могли бы открыть мне глаза на мою новую привлекательность. Но где же они? И кто они? Конечно, женщины, которые принимают и любят меня таким, каким я становлюсь. Страдание смягчается дружбой, игрой, временными лагерями, историей, уже политикой.