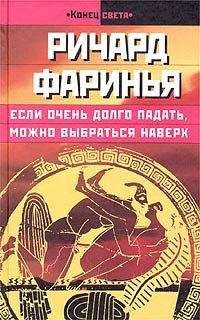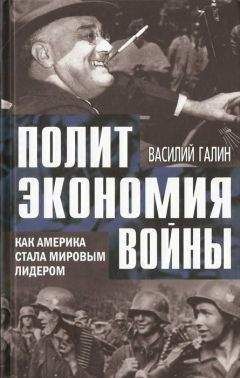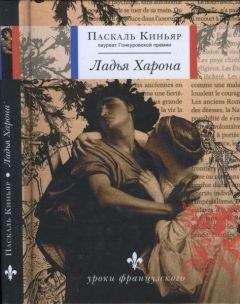Паскаль Киньяр - Салон в Вюртемберге
Я подстерегал моменты возвращения Изабель. Я боялся часов, которые она проводила дома. Не хотел больше встречать ее взгляд, видеть ее тело. Не хотел слышать ее голос. Не хотел ее самое, и даже воспоминаний о ней, и даже воспоминаний о ее имени. Я твердо решился на разрыв, но это мне не удавалось. Возвращаясь из Парижа – где я встретился с Костекером, который в конечном счете сказал мне почти то же самое, что и Мадемуазель: «Дорады не охотятся в океане», – я непрестанно твердил про себя одну из сентенций в духе Будды, которые Рауль Костекер то ли где-то вычитывал, то ли придумывал сам: «Все, кто следует по дороге, заблуждаются». (Я даже не понимал, до какой степени я прав.)
Я больше не хотел ее видеть и все-таки выглядывал в окно, ожидая ее появления. Цеци называла это «игрой в Яхве», поскольку в Библии, в одном из самых прекрасных хоралов, говорилось о Боге: «Он следит у окна, он подстерегает за виноградной беседкою». Я напеваю этот псалом. В Бергхейме, сидя в своей комнате, я подглядывал в окошко за отцом, который ждал прихода матери или скандалил с ней на газоне перед домом. Я ничего не слышал, только смотрел, ребенком, сквозь стекло, в котором застыл воздушный пузырек. Он мне ужасно нравился. Это маленькая круглая пустота являла собой род лупы, которая увеличивала птицу, удлиняла облако, позолоченное умиравшим солнцем, искривляла узкую, посыпанную гравием дорожку, что огибала газон и уходила вдаль, к озерцу, лежавшему внизу, у стены. Этот воздушный пузырек в стекле напоминал капельки высохшего сиропа на плиточном полу, капельки спермы, миг назад извергнувшейся на руку или на ляжку и еще не успевшей разлиться и стать прозрачной, а еще капли воска, что нерешительно сползают по бокам свечи перед тем, как застыть. Все эти жидкости, однако, не были ни клейкими, ни жирными, они становились прозрачными или, наоборот, мутными лишь на короткое время, в зависимости от качества воска или возраста семени. А здесь я подстерегал появление искаженного той запертой в стекле капелькой воздуха – говорят, так на него действует лунный свет, – странного, горделивого, изящного, немого, замкнутого тела этой женщины, этой красивой женщины, прихода которой так боялся. Ибо сияние ее взгляда, гнетущее напряжение, заполнявшее комнаты, моя зачарованность этими огромными глазами – все это обвиняло меня, и подтверждало свою правоту, и наводило ужас.
Иногда уныние выливается в невыносимую пытку. Но угрызения совести, на мой взгляд, много тяжелее уныния, по крайней мере для меня лично, без сомнения, оттого, что я не могу похвастаться такой же душевной бодростью, как мои собратья, – эти муки всегда шли рядом с унынием. Зависть может быть тяжелее угрызений совести, при том что она правит и унынием, и одиночеством, и душевными муками, и предательством. Мы виновны – и на этом сознании, несомненно, зиждятся все наши чувства: стоит лишь вдуматься как следует, и сразу становится ясно, что мы виновны. Ясно, что мы зарились на место другого человека, ясно, что завидовали, ясно, что горели желанием предать смерти, растерзать, – и вот именно это наше безудержное стремление укусить, растерзать оборачивается против нас самих угрызениями совести.
Я считаю, что в мире нет ничего хуже фраз в нереальном условном наклонении (если бы да кабы!..). Они подобны клешням крабов, ковыляющих бочком, или клешням лангустов, которые не рассекают добычу, а вырывают из нее куски. «Она предпочла бы, чтобы…», «Он сказал бы, что…», «Я бы хотел… но увы…». Хватка этих когтей безжалостнее, чем тиски обыкновенного прошедшего времени.
А впрочем, возможно, что страшит даже не сам укус и что не он заставляет вас в холодном поту, с криком очнуться от кошмара; ужасает предыдущий жест, выдающий готовность укусить, – эта разверстая пасть с ощеренными клыками, этот безжалостный оскал, обрекающий на гибель почти все, что есть беззащитного на свете, этот грозный и простодушный смех существа, которое вознамерилось съесть, проглотить добычу; вот отчего смех есть свойство одних лишь хищников, которые жаждут крови, которые прыгают и хватают, убивают и рвут на части свою жертву. И вот отчего смех свойствен не только человеку, но и гиене, и льву, словом, любому животному, видящему, как его добыча споткнулась и, значит, вот-вот станет сочным вкусным куском пищи; нам часто выпадает приятная возможность увидеть, как спотыкаются окружающие, – вот почему мы так часто смеемся!..
Когда она плакала или, вернее, за миг до этого ее верхняя губка вздергивалась и морщилась, мелко подрагивая. Она стояла, прислонясь спиной к каминной полке и обхватив ладонями подбородок. Я пытался поговорить с ней. Но все мои старания ни к чему не приводили, она не отвечала. Это походило на сон или на сказку: сад, весенний день. Я слышу звон колокольчика, подвешенного у деревянной двери, которую нужно открывать рывком, так густо обвил ее плющ. Я отворяю. И делаю шаг назад, чтобы пропустить звонившего, но за дверью – никого. Да, я освобождаю проход, но за дверью никого нет.
«Мне смешно до слез! – разъяренно сказала она. – Я несчастна, как рыба в воде».
«Это все равно что сказать: рыба в отпуске на нормандском побережье».
Я вывел ее из дому под моросящий дождь. Последний раз мы прошли мимо куста-швабры, такого же невидимого, как гномики, скрытые на рисунке в запутанной вязи нарисованных древесных веток, в лесных дебрях, – сколько ни смотри, никак их не отыскать. Бывают существа, которым не хватает особого вида хлорофилла, помогающего им поглощать счастье или, по крайней мере, приобщать его к синтезу возраста, памяти, тела и сопутствующих обстоятельств. По правде говоря, такого хлорофилла не хватает всем людям, поэтому все мы такие белые, или черные, или желтые, тогда как единственный цвет, который несомненно украсил бы нас, – яблочно-зеленый. А если к этому добавить шляпу с цветочками!..
Собравшись с духом, я сказал, что не знаю, люблю ли я ее.
«Ты не знаешь, зато я знаю! Ты любишь Флорана, – ответила она. – Ты сбежал не с тем, с кем надо. Вот и иди теперь к нему!»
И мы оба заплакали. Всхлипывая, я предложил ей, в знак прощания, совершить прогулку, поехать в Ивето, сварить конфитюр или компот из ежевики. Ежевичные кусты заполоняли весь карниз на середине скалы, что высилась над морем. Мы так и сделали. Зашли домой. Взяли пустой молочный бидон. Наполнили его ягодами. Мы все еще всхлипывали. И держались за руки.
В течение всех предыдущих дней я не мог заниматься любовью с Ибель по-настоящему. Я прибег к другим способам и, кажется, доставил ей наслаждение. Говорят, крик оргазма, который даже и в таком случае может быть притворным, есть отзвук первого младенческого крика, похоже оставляющего в нас не слишком приятное воспоминание. Я думаю о тех яростных, раздраженных, нервных, агрессивных выкриках, которыми Ибель завершала свой оргазм. Можно прибегнуть и к другому сравнению: крик оргазма – это род эха, нестройного, пронзительного и, уж конечно, древнего эха крика агонии.
Я грезил о Фотини Каглину. Но во мне уже иссякла та жажда, что позволила бы убить вожделение к телу Фотини в объятиях Изабель. Не могу сказать, что меня покинуло желание, просто я уподобился змее, которая освобождается от старой кожи, оставляя пустой выползок. Для меня то, что день за днем, не лишая внешних признаков вожделения, все чаще мешало пусть не осуществить во всей полноте – это, вероятно, было бы слишком уж большой дерзостью, без сомнения превосходившей возможности мужской силы, – но хотя бы закончить начатое, было подобно ужасному детскому воспоминанию о гостиной Бергхейма, где я сидел, вцепившись в смычок и терзая струны. Именно тогда, ребенком, в годы коротких штанишек и полнейшего безразличия – но чем я мог разбить это ледяное безразличие?! – я стискивал голыми коленками бока виолончели и, согнувшись в три погибели, жал на смычок с такой силой, что ногти белели от напряжения, а инструмент издавал душераздирающий скрежет. На самом деле я никогда не видел себя со стороны, играющим на виолончели-четвертушке. Не видел, как наклонялся над струнами. Все это я читал только в глазах моей матери. Во время ее редких наездов в Бергхейм. И это при том, что она никогда не отрывала взгляда от каталога мейсенского фарфора или от своего мундштука. И не произносила ни звука.
Было утро. Ветер стих, но от этого не стало теплее. Туман – плотный, вязкий – никак не рассеивался. Я дрожал от холода, вытаскивая мусорный мешок на улицу: фургон должен был проехать мимо дома незадолго до семи часов. И вдруг мне почудился в тумане, довольно далеко от ворот, возле кустов, неясный силуэт. Я подошел ближе с криком «Кто идет?», движимый, без сомнения, ностальгическим и мрачным воспоминанием о ночных дозорах в Сен-Жермен-ан-Лэ. Наконец я узнал в этом силуэте Изабель. Она стояла в мокрой траве босиком, в ночной рубашке, держа обеими руками чашку кофе с молоком, из которой струился пар, смешиваясь с окружающим маревом.