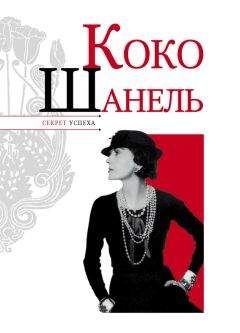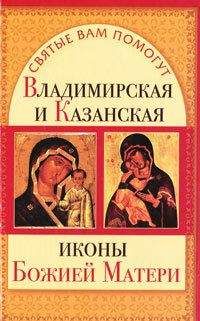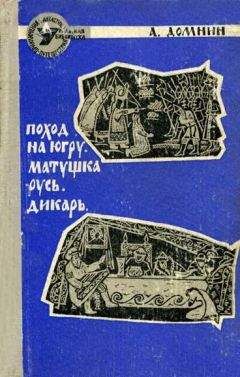Ана Матуте - Первые воспоминания. Рассказы
Часа через два ему принесли глиняную миску и деревянную ложку. Он поднял крышку, и лицо его почти исчезло в облаке пара. Потом он принялся есть, очень медленно, выпятив нижнюю губу. Тем временем мы — человек десять — читали вслух, стоя вокруг него. Без всякого сомнения, ученики наслаждались зрелищем, то и дело они замолкали, фыркали, но учитель не замечал и даже пользовался этими паузами, чтобы посетовать на судьбу. Говорил он примерно так:
— Стыд и срам! Стыд и срам! И это обед? Этими помоями должен питаться тот, кто содержит мать, жену и троих младенцев? Неужели среди сынов человеческих так и не воцарится справедливость? Господи, господи! Где она, справедливость? Почему одним — все, а другим — ничего? А, проклятье, как печет! Опять переложили перцу. За что, за что я гибну в этой конюшне? Кто меня просит корпеть над книгами и насильно учить этих злых тупиц? Торговал бы я дома удочками и жил, как султан!..
Он взял миску обеими руками, выпил жижу и вытер губы тем же грязным платком, в который кашлял.
Когда уроки кончились, он снова подозвал меня и рассказал, что родился в рыбачьем солении, у самой пристани.
— Мы держали лавочку рыболовных снастей, — закончил он. И попросил подождать минутку, пока он напишет дедушке.
Я ждала, а он писал и рвал листочки. Наконец он вручил мне аккуратно сложенную записку.
— Ответа я жду сегодня, — сказал он. — Не забудь: сегодня.
Выходя на тропинку, я развернула письмо и прочитала:
«Девочке не пристало водиться с этими темными, испорченными детьми. К тому же сырость может подорвать ее здоровье. Я, на свою беду, прекрасно знаю, что в школе сыро, но никто не слушает моих жалоб. Никто не соизволил починить крышу или заменить солому черепицей. Вот если бы речь шла о новой крыше для свинарника, тогда другое дело, не так ли? В связи со всем этим, я предлагаю учить девочку на дому. Я мог бы приходить ежедневно, в том часу, который Вы укажете. Без сомнения, Вы знаете, сеньор, как важно для нее образование. Не станем же останавливаться перед жертвами.
Не сомневаюсь, что мое предложение будет принято.
Искренне Ваш
Леон Израэль, штатный преподаватель местной школы. P. S. Ваша внучка — хорошая девочка».Я остановилась в замешательстве. Мне представилось, как невыносимо скучно заниматься взаперти, в дедушкином доме. То ли дело эта чудесная школа, где, на что ни взгляни, уносишься мыслью в неведомые края!
Я в первый раз осознала зло как раз тогда, когда меня назвали хорошей. Я разорвала бумажку на мельчайшие кусочки, и они белым роем затрепетали на ветру. С тех пор я всю жизнь думаю, что там, на этой грязной тропинке, я потеряла детство.
За столом, сидя напротив дедушки, я сказала:
— Учитель хочет ходить сюда каждый день.
— Что тут надо этому буйно помешанному?
— Он просил тебе передать…
— Ты лучше ему передай: что он сделал с зерном, которое я ему одолжил? Что он сделал с деньгами, а?
— Он говорит, если ты хочешь, он будет давать мне частные уроки…
— В счет его долга, да? Не на таковского напал! Со мной эти штуки не пройдут. Что ты, в школе не успеваешь?
— Нет, нет. Я хорошо учусь.
— Чего же тебе надо? Хочешь тут заниматься?
— Я ничего не хочу, дедушка, честное слово! Это он…
— Не понимаю. Если ты там учишь все, что надо… А учитель твой плут и обманщик. Задолжал мне тысячу с лишним реалов.
— Он просил, чтобы ты быстро ответил. Он всегда спешит.
— Спешил бы долги платить! Просить мы все горазды.
— Я должна принести ему ответ… от тебя.
— Будет ему ответ.
Сердце у меня прыгало от радости. Однако я знала, что веду себя плохо, — если б я не разорвала письмо, все могло бы обернуться иначе.
Потом я сказала, что в школе смеются над моим платьем.
— Что же ты хочешь надеть? Когда ты от меня отстанешь?
— Я хочу ботинки и вельветовые штаны.
— Хорошо. Скажи Волку, он тебе подыщет.
На другой день я внешне ни в чем не уступала пареньку, который чистил стойла за пятьдесят сентимо и ходил по улицам с метлой на плече. У него мы и купили штаны и рубаху.
Учитель не удивился моему виду — он слишком меня ждал. Я подошла к кафедре и вручила ему сложенную бумажку, на которой дедушка просто написал: «Нет!»
Учитель задумался, не выпуская бумажки. Потом скомкал ее и бросил на пол. Он не сказал ничего, но все утро раскрашивал дрожащей рукой картонные пирамиды. Иногда он смотрел на меня. Мальчишки издевались над ним вовсю, но он, кажется, не замечал. Именно тогда мне дали прозвище «Генерал Дуракин».
Когда мы вышли из школы, учитель взял меня за руку. Ребенок спал, уронив голову на отцовское плечо. Я поплелась за ними, мне было не по себе.
Мы дошли до большой дороги, прорезавшей дедушкины земли. За стадом черных коров брели пастухи, и резкие окрики короткими ударами бича рассекали утренний воздух.
— Это все принадлежит ему, — сказал учитель. — Это и почти вся деревня. Но старый скупец одевает тебя в лохмотья, как последнюю прислугу. За что ты должна терпеть общество этих вредоносных невеж и страдать от сырости, которая губит нас всех? Почему он не соизволит дать тебе достойное воспитание?
— Он не хочет, не хочет, — заспешила я, сжимая кулаки. — Вам не стоит к нему ходить. Он рассердится, будет огонь изрыгать, как говорит Волк.
— Вот как? Изрыгать огонь?
— Да, да, он ругается и богохульствует.
— Боже мой, что за кошмар! Какой пример для ребенка!
— Честное слово, он не хочет, чтобы вы меня дома учили! (Но я сумела не сказать: «И я не хочу».)
— Старый скупердяй, себялюбец, безбожник, — взвился учитель и сплюнул на землю. — Где правда? Где правда?
Его охватило то безумное возбуждение, от которого он багровел и у него сверкали глаза. Ребенок проснулся, испугался, заплакал и принялся колотить отца по голове. Но тот, как будто не замечая, шагал туда-сюда по краю тропинки.
— О господи, почему существуют подобные люди? Зачем я отдал свою молодость, зачем горел, мечтал, надеялся? Мы голодаем, господи, мы голодаем! Разве ты не видишь ежеминутно, ежесекундно, что мы голодаем? Я знаю, я знаю, и дома винят меня, все валят на меня! Но что я могу? Что могу? Скажи мне хоть ты, господи, что я могу?
Вопрос — «Где правда? Где правда?» — звучал непрерывно в его речах, в его жестах, в самом его кашле.
— А старый невежда и безбожник гниет в золоте!
Тут я удивилась. Где же у дедушки золото? И почему-то вспомнила амбар, полный красных от солнца маисовых початков.
— На что ему деньги? Для кого он бережет свою проклятую землю? О, если бы померз его хлеб, рухнул его дом и все псы передохли!
Что-что, а собак бы дедушка пожалел.
— И вот — это бедное, невинное создание. Что она видит в его доме? Как она там вырастет, несчастная крошка?
От избытка недоброй радости «крошка» принялась топотать по мягкой земле. Что-то проснулось в моей душе и подсказало, что он — мой союзник. Я почувствовала, что скоро мне удастся убежать отсюда.
— Иди со мной, мой ангел, — сказал учитель.
И повел меня к себе. Он снимал две комнаты над сельской лавкой. В лавке торговали дроком, свечами, силками, чтобы охотиться в те месяцы, когда охота запрещена, и кусками шин, из которых тут мастерили обувь. Кроме того, там с незапамятных пор стоял бочонок с маслинами.
Лавочник был курносый, от него несло спиртным. Рядом с лавкой, стена в стену, находилась одна из местных таверн; лавочник проделал в стене окошечко, совал туда голову и преспокойно спрашивал:
— Еще одну.
Хозяин подносил ему рюмку за рюмкой, и лавочнику не приходилось даже двигаться.
В тот день он, нахлобучив фуражку, сидел на полу, с котом на коленях. Учитель встряхнул его, разбудил и возопил, указуя на меня:
— Вот, взгляни! Кто бы мог сказать? Это его внучка, в рубище, без присмотра!.. А он в состоянии всех осыпать платиной! Да, именно платиной! Мне больно смотреть на эту невинную крошку! Я буду учить ее даром! Что ты скажешь о людях, подобных ее деду? Что ты думаешь об этом негодяе?
Лавочник поднял козырек — пальцы его не слушались — и посмотрел на меня.
— Отсталость! — сказал он и зевнул.
Учитель еще долго кричал о злодеяниях моего деда, о его скупости, безбожии, о том, как он смешон. По правде говоря, никто не обращал на эти крики особого внимания. Зато все, кто там был — и лавочница, и две-три посетительницы, — смотрели на меня с любопытством и не без сочувствия.
Наконец мы пошли наверх. В комнату проникали запахи снизу. Все было заставлено вещами — по-видимому, их покупали в расчете на больший простор, — и оттого особенно жалкими казались эти книги, тарелки, кастрюли, одежда, обувь. Почти всю комнату занимали две кровати: на одной лежала мать учителя, парализованная и полоумная, и смотрела прямо перед собой из-под низко повязанной косынки; невестка кормила ее, а новорожденный младенец был привязан к материнской спине. Скудный свет сочился с серой улочки сквозь крохотное окно.