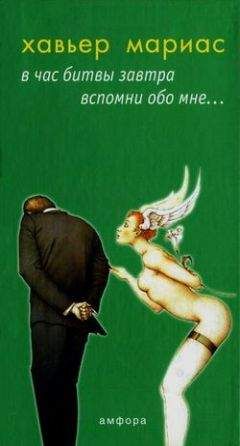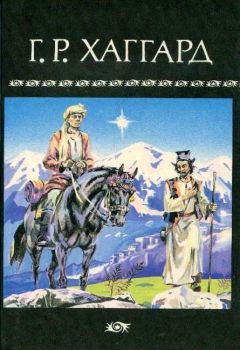Хавьер Мариас - Белое сердце
— А может быть, он певец? — сказала она.
— А может быть, писатель, — предположил я.
Берта послала ответ на номер абонентского ящика, указанный «Ником». По-английски такие ящики называются «Р. О. Box». Все ими пользуются, их в стране миллионы. Во время моих визитов в Нью-Йорк Берта показывала мне все письма и кассеты, присылаемые ей, но она никогда не показывала мне ни одного своего ответа. Она не показывала свои письма мне и не оставляла себе копий, и я ее понимаю: люди еще могут смириться с тем, что окружающие будут обсуждать их поступки, мимолетные и иногда для окружающих совершенно непонятные, но никак не хотят допустить, чтобы обсуждалось то, что они написали остающимися надолго и совершенно понятными словами (даже если окружающие настроены благожелательно, даже если свое мнение они не высказывают вслух).
Несколько дней спустя она получила ответ. Это письмо она мне, как обычно, показала. Оно было на цветистом и не совсем правильном английском — том же языке, на котором писала ему (чтобы, как она мне сказала, не задеть его чувства и не умалить его лингвистические познания) Берта. Это письмо было более коротким и менее сдержанным, словно ответ Берты давал его автору право на это, а может быть, просто при втором шаге уже не требуется соблюдения тех элементарных норм, которые обязательны при первом контакте. На этот раз он подписался не «Ник», а «Джек» — как было сказано в письме, «на этой неделе» он предпочитал имя Джек, Письмо, как и в прошлый раз было подписано от руки, буква «к» в имени «Ник» была точно такой же, как буква «к» в имени «Джек». Он уже просил у Берты видеокассету, чтобы увидеть ее лицо и услышать ее голос, и извинялся за то, что еще не выслал свою (видимо, Берта первой попросила об этом): он еще не совсем устроился в Нью-Йорке, где ему предстояло пробыть два месяца, и пока не успел купить видеокамеру или выяснить, где можно сделать такую запись. Он пришлет кассету в следующий раз. В этом письме он не упоминал о своей «арене», не сообщал о себе ничего нового, а писал большей частью о Берте: коротко (три строчки) о том, какой он представляет ее в постели. Тон письма был пошловатый, но не грубый, некоторые фразы были достаточно откровенными («Не могу дождаться минуты, когда смогу раздеть тебя и прикоснуться к твоей нежной коже»). Только в самом конце, прежде чем подписаться «Джек», он, словно не в силах удержаться, простился грубо и жестко: «Я хочу с тобой переспать», — написал он по-английски. Мне показалось, однако, что эта фраза была написана не случайно — это было безжалостное напоминание о том, что должно произойти, что предусмотрено правилами игры. А может быть, он хотел этой фразой перечеркнуть все написанные ранее приятные пошлости или проверить, как воспримет такие слова адресат. Берте хватило выдержки и чувства юмора — она смеялась глаза ее блестели, она меньше хромала, чувствовала себя польщенной, забыв на миг, что для мужчины, желавшего ее, она была пока только несколькими строчками, только инициалами, только обещанием кого-то (псевдоним «БСА», несколько слов, написанных на чужом для них обоих языке), и что, возможно, после того, как он увидит ее (или кассету) и она станет для него более реальной, она перестанет быть желанной, как это уже случалось, и как только желание сбудется (если оно вообще сбудется), ее могут бросить, как это почти всегда происходило, она сама не знала (или не хотела знать) почему.
Через некоторое время она ответила «Джеку», как до того ответила «Нику», послала ему копию той кассеты, которую записывала для агентства, и стала ждать. Все дни, пока она ждала ответа, она нервничала, но в то же время была в приподнятом настроении, была нежна со мной — так всегда ведут себя женщины, когда у них появляется надежда. Впрочем, со мной Берта всегда такая. Однажды, когда я вернулся с работы раньше, чем она, и вынул почту из почтового ящика, Берта выдала себя с головой. Едва открыв дверь и бросив ключи в сумку (и не сменив походку на домашнюю — она была слишком сосредоточена на другом), она быстро подошла ко мне и, забыв даже поздороваться, выпалила:
— Ты забрал почту из ящика или там ничего и не было?
— Я. Твоя почта лежит на столике. Я получил письмо от Луисы.
Она бросилась к столику, просмотрела конверты (их было три), но ни одного не распечатала. Потом сняла плащ, зашла в ванную, прошла на кухню к холодильнику, переобулась в мокасины, подчеркивающие ее хромоту. В тот вечер мы оба оставались дома. Я смотрел по телевизору конкурс «Family Feud» [8], а Берта читала (к счастью, не Кундеру). Вдруг она сказала:
— Какая же я идиотка! Все забываю. Подумала, что среди почты могло оказаться письмо от «Заметной Арены». Ведь если он напишет, то напишет на абонентский ящик: он же не знает ни моего адреса, ни моего имени. Я просто дура. — Она помолчала секунду и спросила: — Ты думаешь, он ответит?
— Конечно. Напишет тут же, как только увидит тебя на кассете.
Она ничего не ответила, и некоторое время мы вместе смотрели «Family Feud», потом она сказала:
— Каждый раз, когда я жду ответа, я испытываю ужас от того, что ответа может не быть, и не меньший ужас от того, что мне могут ответить. Кончается все всегда ужасно, но пока я жду, у меня такое чувство, что все только начинается и впереди — безграничные возможности. Я чувствую себя так, словно мне пятнадцать лет: никакого скепсиса, даже странно. Снова строю воздушные замки. Большинство из тех типов, с которыми я потом встречаюсь, — жалкие и отвратительные. Иногда я соглашаюсь поужинать с ними и на все остальное только потому, что встрече предшествовали ожидание и письма, иначе я даже дорогу переходить вместе с ними не стала бы. Они, наверное, то же самое думают обо мне.
После некоторой паузы (возможно, она просто слушала очередной вопрос, заданный участникам «Family Feud»), она продолжила:
— Поэтому самое лучшее состояние — это состояние ожидания и неведения. Однако, если бы я знала, что это состояние будет длиться бесконечно, оно перестало бы мне нравиться. Ты только подумай, вдруг появляется кто-то, кто, без всякой на то разумной причины, начинает меня интересовать, хотя я ничего о нем не знаю, — как этот Ник или Джек (с чего ему при-шло в голову сменить имя? Так никто не делает). Пока я с ним не познакомлюсь, пока хотя бы не увижу его кассету, если он ее пришлет, или его фотографию, я буду почти счастлива. Вот уже много лет я бываю в хорошем настроении только в такие дни. А потом я получаю эти дурацкие (хотя авторам они кажутся очень смелыми) видеозаписи! И все-таки я часто соглашаюсь встретиться с ними, убеждая себя, что нельзя судить о человеке, пока с ним не встретишься. Я говорю себе, что, записываясь на видео, человек не всегда ведет себя естественно; совсем другое дело, когда встречаешься лицом к лицу. Я как бы даю им еще один шанс, — даю им возможность исправить то впечатление, которое произвели их письма и кассеты (наверное, они дают такой же шанс мне).
Смешно, но эти видеозаписи, как бы ни старались те, кто их делает, никого не могут обмануть. Их смотрят, как телепередачи: тот, на кого смотрят, беззащитен перед тем, кто на него смотрит. В реальной жизни мы никогда никою не разглядываем так пристально и с таким бесстыдством: мы сознаем, что другой человек тоже смотрит на нас, а если мы за ним подглядываем, то он может нас обнаружить. Видео, запись — это адское изобретение: она позволяет задержать быстротечное мгновенье, и уже нельзя потом перетолковывать его по-своему и рассказывать о случившемся не совсем то, что было на самом деле. Она покончила с воспоминаниями, которые всегда неточны и которыми можно манипулировать, которые можно отбирать по своему усмотрению и варьировать. Сейчас ты уже не можешь вспоминать о событии так, как тебе нравится: событие зарегистрировано. Зачем теперь вообще вспоминать, когда можно снова все увидеть, даже (при желании) в замедленном темпе. И как теперь можно изменить воспоминание по своему усмотрению?
Голос у Берты был усталый. Она сидела в кресле, подогнув под себя больную ногу и держа в руках книгу, как будто не решаясь прервать чтение или отвлечь меня от телевикторины, и поэтому ее слова были как бы замечаниями в скобках, словно она не хотела говорить главного.
— Хорошо еще, что записываются на пленку только немногие сцены, а обмануть они не могут не потому, что все в них — выдумка, а потому, что смотрят их те, кто все понимает.
Когда я смотрю кассеты, которые присылают мне эти мужчины, мне становится страшно, хотя и смеюсь, и даже соглашаюсь встретиться с некоторыми из них. Еще страшнее мне становится, когда они приходят на встречу в ужасных костюмах, с презервативами в кармане — еще ни один не забыл захватить их с собой, все рассуждали так: «Well, just in case» [9]. Если бы хоть один из них не подумал об этом в первую встречу, вышло бы еще хуже: я бы влюбилась в такого. Сейчас я все время думаю об этом Нике или Джеке, этом странном испанце, который выдает себя за американца. Забавный, должно быть, тип, одна его «заметная арена» чего стоит, придет же в голову начинать с этого! Все эти дни я чувствую себя более уверенной, даже довольной, потому что жду от него письмо и кассету, и, конечно, потому, что здесь ты. И чем все кончится? Он пришлет ужасную кассету, но я буду смотреть ее снова и снова, пока не привыкну к нему, пока он не перестанет мне казаться таким уж отвратительным, а его недостатки не покажутся мне даже привлекательными — в этом единственный плюс повторения: все становится с ног на голову, ко всему привыкаешь, все, что обычно вызывает отвращение, в конце концов начинает привлекать, если столько раз видишь это на экране телевизора. Но в глубине души я уже буду знать: единственное, чего хочет этот тип, — это переспать со мной один раз и баста (он уже предупредил об этом). А потом — исчезнуть, неважно, понравится он мне или нет захочу я, чтобы он исчез или нет. Я одновременно хочу и не хочу его видеть, я хочу с ним познакомиться и хочу, чтобы он оставался незнакомцем, хочу, чтобы он мне ответил и чтобы его письмо не пришло. Но если ответа не будет я приду в отчаяние: решу, что он посмотрел мою кассету и я ему не понравилась, а это всегда так обидно. Я сама не знаю, чего хочу.