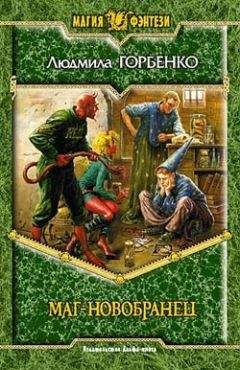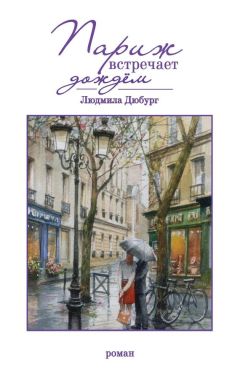Людмила Пятигорская - Блестящее одиночество
Тормозим у дома бабки Прасковьи, вокруг погребальная тишина, ни звука, ни человека; как у Тацита в «Анналах» — «vastum silentium»[7]. А Никита меня не пускает, в машине запертой держит — ходит вокруг да около и крыши в бинокль рассматривает. Стучусь изнутри и кричу: «Никит, там чего, снайперы на крышах посажены?» А тот мне в ответ: «Вы не могли понять, „… что страсть сильнее воли. / Так вот она — зеленая страна! / Кто выдумал, что мирные пейзажи / Не могут быть ареной катастроф?“/…» И дальше, все в том же духе: «Вольно вам шутить — когда аборигены из обреза в вас саданут, с вас больше не спросится. А мне придется внимать вашему „великолепию“. Обнаженная, отвергнутая духом телесность меня оскорбляет. Уверяю, мадам, что вы плохо себе представляете эстетические последствия смерти. Впрочем, вы ни во что не ставите красоту и лишены присущей артисту брезгливости. Ваша порочность исходит из требований натуры, но не из нужд высокого стиля, трансформирующего отходы жизни в искусство, обратной связи с создателем не имеющее, неприкасаемое…» — «Послушай, — говорю, вылезая из тачки, — заткнись, твои педерастические выкладки мне надоели. А если уж говорить серьезно, то следует понимать a priori, что „наш долг по отношению к мертвым таков же, что и по отношению к живым“. За что я только деньги тебе плачу! Понял? Вот так-то». Махнув на Никиту рукой, следую без экскорта к дому. «Раз вы уехали, казалось нужным / Мне жить, как подобает жить в разлуке: / Немного скучно и гигиенично…» — декламирует он вдогонку.
НаходкаПосле мужицкого неудавшегося поджога мальчики наш участок бетонными плитами обнесли, хотя лучше не стало, разве что в туалет, который за домом, можно без охраны наведаться. А так — сижу в блиндаже (и зачем из Москвы было ехать?) в ожидании соловьиного посвиста. Вот и вчера. Вышла в сад подышать — солнце скатилось к закату, багровые отблески располосовали черное небо, аромат ночной резеды пронизал липкий от запахов воздух. А я иду себе по дорожке, гравий в потемках поскрипывает — красота. И вдруг как споткнулась, вперед плашмя полетела, лицом в гравий упала. Еще хорошо, что именно я, а не кто-то из женской прислуги, иначе бы визг поднялся — у меня же ослабленная реакция и на мертвых и на живых, или, как говорила мне мать в час своей смерти, нехватка «modus sentiendi»[8] — способности восприятия.
Итак, валяюсь с лицом в гравии и одним глазом вижу, что рядом со мной чернеет отрубленная человечья нога. В темноте я могу различить, что нога обута в кирзовый военный сапог с заткнутой внутрь грубой штаниной, обрезанной, вместе с ногой, у бедра. Лицо у меня горит — острые камешки впились в щеку иголками; из мелких точечных дырочек сочится розовая вода. Спокойно встаю, беру ногу под мышку и направляюсь к ребятам, которые тут же, на нашем участке, находят ногу вторую, обутую в дырявый сапог и одетую в изношенные подштанники. Других частей тела им обнаружить не удается.
МальчикиНоги сложены на полу, а мы сидим при свечах у стола, как Кутузов в избушке в преддверии Бородина, и совещаемся. «Покойники смешалися с живыми, / И так все перепуталось, что я / И сам не рад, что все это затеял…», — тягуче и нараспев читает Никита. Признаться, достал, дальше некуда, своими стихами, к которым прибегает не реже, чем Макс к матерным выражениям. «Пустая угроза, не более. Фрагменты недостающего тела аборигены подкинули в печальный наш сад, чтобы на страх развести и из города выкурить». — «Я им „выкурю“, — Макс делает неприличный жест, — я им так, блин, „выкурю“, что небо с овчинку покажется, сами в очередь прибегут, а я их построю и погляжу, кого звездануть, а кого так, портками трясти оставить!» Никита брезгливо морщится. Ни обитателей нещадовского зверинца, ни нашу честную компанию он за людей не считает, но дело свое делает, а куда же деваться? Денежки-то на наркоту нужны, а я втройне ребятам отстегиваю, как за Полярным кругом, где вечная мерзлота и тюлени. У нас вообще-то всем следует так платить — за токсичность людского фактора и вредность окружающей атмосферы. Кстати сказать, и из Москвы Никите надо было исчезнуть, иначе б ему кранты вследствие одной голубой, завязанной на колесах, истории. Вот и сидит теперь здесь, что пень, а как нанюхается, накурится да наколется, Кузмина в голос читает, по черной слабеющей памяти. Кузмин у голубых, декаденствующих — вроде как гуру: все у него какое-то непотребное, наизворот. А наш Никита, хоть и на свой манер, достойный преемник той, пусть будет «серебряной», изящной больной надломленности. Будучи натурой артистичной и одаренной, сумел себя до черты довести. Отторжение себе подобных, дошедшее до мистической рвоты. Индивидуализм, доведенный до паранойи. Высокомерная растерянность природного сибарита, не знавшего удовольствия. Брезгливость занюханного педанта, обосновавшегося на помойке. Ну, и тому подобные злоключения.
Тем временем Макс, в предчувствии скорой расправы, вконец раззадорился — готов «валить» и «мочить», невзирая на лица, всех без остатка. «Стоит ли пачкаться? — резонно спрашивает Никита, протирая тонкие пальцы платком, надушенным — до боли в моих висках — пахучей водой Jo Malone. — Через несколько лет в этом говеном городе никого не останется — молодежь поголовно сваливает, и старики пачками вымирают. Половина домов пустует, все разграблено, с концентрацией на дверных ручках». Никита прячет лицо в ладони, вдыхая приторные пары, и нараспев, покачиваясь, заводит: «… тело мне сковала / Какая-то дремота перед взрывом, / И ожидание, и отвращенье, / Последний стыд и полное блаженство…» Он поднимает шальные глаза и страшненько улыбается: «Труп еще не остыл, а они, сами стоя над гробом, ручки срывают, а тут уже следующие в затылок им дышат — наизготове». — «Ручки, ты говоришь? — уязвленно спросил Макс. — Двери с петель, блин, — и уносят! Стекла оконные вырезают! Половицы выдергивают!»
И тут отозвался Илья. Опустив глаза долу, с краской стыда он сказал: «Я в одну избу заходил и сам видел — подчистую все вымели. На полу коллаж из семейных снимков валяется: вылинялый солдатик в медалях, пожелтевшие молодые… мухами что ли засиженные… Стакан с засохшей заваркой, тряпка, газеты — более, кажется, ничего. — Илья помолчал с горечью и добавил: — А киоты с образами, что в красном углу висели…» — «Какие киоты?» — не замешкал спросить Макс. «Да нету уж их, своровали…» — ехидно сказал Илья, пощипав козлиную бороденку, которую, ввиду религиозных исканий, он отрастил. «Кто про что, а вшивый про баню», — констатировал язвительно Макс. Он прозвал Илью «вшивым», поскольку последний — еще в предзагробной московской жизни — подцепил вирус державного православия и с тех пор ходит злобно-напыщенный и изнуренный, с печатью «откровения божьего» на челе, что бесит Макса до невозможности. Да и я вот смотрю — что-то с Илюшей не так, какой-то он стал двоедушный и заторможенный. Взорами только в нас мечет, исполненными презрения. Прикольная все же штука — сидишь, словно бухой, закутанный в пелену предъявленной миру религиозности, которая есть твой мандат, дающий тебе право свободы действий, не говоря о совести. Делай что хочешь, но схоронись под прикрытием веры — и кто там тебя разберет? Шансы невелики, когда твоя нетерпимость рядится в доспехи «чистоты веры», а неутолимая ничем зависть — в одежды взятого на себя, чужого «душеспасения». Что же касается, ipso facto[9], некоторой заморенности, зачастую сопутствующей прорыву в религиозность, — то она принимает вид добродетели, утомленной людскими пороками.
Возвращаясь к своим баранам, Илья вопрошает: «На что же это похоже — из избы вынести образа?! Сорвать со стены, спрятать под мышку? Срам-то какой! Грех душевный! Мне духовник давеча говорил: „Остерегайся игралищ с дьяволом, неровен час — заиграешься, не приметишь!“ Тьфу, тьфу, тьфу, тьфу, чур меня!» — Илья мелко и часто крестится, поплевывает через плечо — уберегается от заразы. «А ты не томись, инок божий, — бросает ему Никита, протирая ладони платком, испускающим сладковатые пары Jo Malone, — ты отмоли, отмажь нас, грешников, перед Господом, самому легче станет». Илья прямо взвивается, как в жопу ужаленный. «Ага, нашел скупщика краденого! — злобно шипит он, заливаясь краской негодования. — Терпи и воздерживайся, а противополагаемый источник греха сам иссякнет!» Веки Ильи трепещут, в уголках рта появляется пена с мутными пузырьками. Истонченность его тела становится угрожающей: пальцем притронешься — он и посыпется, как высушенный на солнце песок. «Да ты не серчай, брат Илья, — нехорошо улыбнувшись, говорит Никита, — ты вот что, ты это — хвост опусти и в штаны сзади заправь». Илья снова подскакивает и в томительном ужасе хватает себя за задницу. Макс громогласно хохочет, постукивая об пол стальными подковами. Никита аккуратно складывает запревший в руках платок и пристраивает его в верхний карман веером: