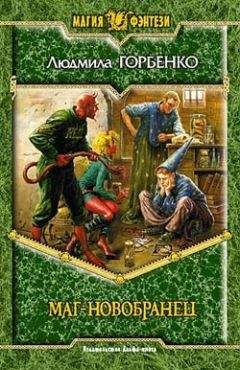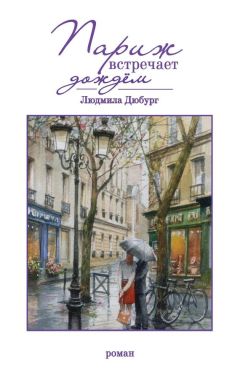Людмила Пятигорская - Блестящее одиночество
«Ах! Твой шофер! — он ударяет ладонью в лоб и начинает беззвучно смеяться, сотрясаясь расплывшимся телом. — Нелепое недоразумение…» Его душит смех. Обращаясь к маминой фотографии, он тычет в меня пальцем. Фифи высовывает язык и, кашляя, мелко подлаивает. Лежу притихшая на полу; пока что не знаю, как поприличнее встать, чтобы не потерять в глазах стервы Фифи своего достоинства. «Изволь, — говорит отец, прекращая смеяться и вытирая слезы платком, — умение постоять за себя тебе еще пригодится, сейчас нужды нет — на что, рассуди, мне сдался этот шофер? Беру на два-три часа, в виде абсолютного исключения. К маме только заеду, и после полудня он — твой». Вот так устроила непредусмотренную протоколом истерику! Надо следить за собой, иначе могу до безобразия распуститься. «Но пасаран!» — для убедительности выкрикивает отец, клятвенно выбрасывая вперед руку с до боли сжатыми пальцами.
РусалкаПосле полудня они разбились. Они ехали по проспекту, и какая-то, говорят, сопливая — с золотыми пушистыми волосами и русалочьими глазами — маленькая девчонка вырвала куриную лапку из маминых рук и выбежала на дорогу, наперерез машине. Мой шофер мог резко свернуть налево, врезавшись в тротуар, но он крутанул направо, въехав на встречную полосу. Их подмяла и потащила крылатая семитонка, точно ангел смерти вылетевшая навстречу. Все было разыграно как по нотам, не придерешься. Когда мне сообщил об этом дворецкий, я рассмеялась ему в лицо, потому что так не бывает, а куда они оба исчезли тем призрачным пополуднем — решительно не понимаю.
МглаИтак, в четырнадцать лет я стала обладательницей баснословной фортуны. Пацаны пытались меня обобрать, что-то — по мелочам — украли, но основное опекунский совет отстоял, не знаю какой и чьей кровью. Отец оставил хитрое «приложение» к завещанию — следуя примеру мафиозного деда, разнесенного минометом, — в котором мои права на наследство подкреплялись впечатляющими досье, заведенными на опекунов и запрятанными куда дальше, чем кощеева смерть, в ларце да яйце, на заднем крыльце. А если кто без шифра к крыльцу тому подойдет — сразу взрывается. А шифр известен тому, кого днем с огнем не отыщешь, кто невидим, неуязвим с его дополнительными гарантиями. Такая вот загадочная история. Словом, до моего совершеннолетия меня держали взаперти — прятали от людей, учили десяти языкам, обхаживали, ухаживали, но главное — ждали. Еще бы! В Москве я слыла завидной невестой, а у моих кормчих как-никак имелись в наличии сыновья. Опекуны приходили поодиночке, и каждому в отдельности я обещала, что непременно отдам руку и сердце его отпрыску.
Общаться мне было почти не с кем, поэтому на мертвой латыни я начала говорить гораздо свободнее, чем на живом русском. Каких-то слов «родной речи» я просто не знала, а редкие разговоры с опекунами моему русскому не служили, так как опекуны изъяснялись при помощи междометий, прерываемых стоп-словами. Видимо, там, за стеной моего Эльсинора, начиналась эпоха великих языковых потрясений.
Те годы, проведенные в заточении, не оставили во мне никакого следа — так, вялотекущая вереница дней и ночей, отсутствие нежности, холодное послушание и, как бельмо на глазу, белесая пелена. И словно за ней жизнь еще теплится, кто-то еще живой, но просыпаешься, протираешь глаза и видишь одну белесую пелену — без просвета.
Состарившийся светский левЗа несколько лет моего вынужденного затворничества он здорово сдал — и скуксился, и обрюзг. У него появилась шаркающая походка и не актерская, но старческая жеманность. Увы, слава изнашивается. Он сидит развалясь в нашем синем салоне — нога на ногу. Посидел, сменил позу — колени пошли враскорячку. Посидел и снова сменил — носки-пятки врозь, ляжки и икры вместе. Сидит, будто пришел ни за чем, просто так покалякать. «Дитя мое, вы помните последнюю нашу встречу на — простите, запамятовал — на каком-то приеме? Вы были тогда совсем девочка, тонконогая, с двумя тоненькими косичками, такая чистая, такая наивная и вдруг — ваше дикое „предложение“, озорница вы этакая! (он прыскает слюной в кулак)! И я — именитый актер, не в юношеских летах, в зените славы и хвалы, старый морской волк, а растерялся, вы не поверите, как мальчишка, такая странная неожиданность, да тут еще ваша святой памяти мама со своим негритянским…» — «Мне все это известно, — прерываю слюнопускание, — что дальше?» Мой визави вылупливает слезящиеся от страха глаза. Пан или пропал, думает он. «Дальше? Вы спрашиваете — дальше… Ну что ж, жизнь шла, с кем-то сводила, кого-то решительно отвергала, но осмысляло мой путь только одно — воспоминание о нашей встрече… Я перемалывал ее тысячи раз и тысячи раз переигрывал по-другому, я был вашим рыцарем, вашим рабом, вашим Отелло, о! кем только „вашим“ я не был! Я убивал вас, я воскрешал вас, я вас лелеял. Но всегда — слышите ли вы это? — всегда я желал вас. Вот вам исповедь старого дурака. И довольно». — «Что ж, коли так, мой друг, то извольте — мое „предложение“ в силе, ведь до сих пор я — девица», — не моргнув, нагло уставившись на него, говорю я. Его глаза, державшиеся на соплях, вываливаются из орбит и болтаются вверх и вниз, как раскидайчики на веревочках. Во всяком случае, я так это вижу. «Ну, зачем вы, не надо, — он не справляется с дрожью в коленях. — Вы убиваете последнее, что у меня осталось, вы убиваете вас…» Я звоню в мамин серебряный колокольчик, чтобы его проводили. Он уходит, наклонившись вперед и работая нераспрямляемыми согнутыми коленями. Он уходит едва-едва, совсем медленно, до такой степени медленно, что когда через час я поднимаю глаза, он все еще не ушел. И даже теперь, по прошествии стольких лет, я вижу, как он уходит. О, если бы за все эти годы он хоть раз обернулся, мне многое бы было отпущено. Ну что ж, одним словом —
ОтъездПосетители и женихи — дети благонравных опекунов и те, возникшие из ниоткуда, — смертельно мне надоели. Я больше не принимаю и собираюсь в дорогу. Увы, я уезжаю. «Уехать — значит немножечко умереть», странно, не правда ли? Бывшие опекуны в злобе — сколько сил на меня угрохано, сколько других оказий пропущено, а тут — мои клятвы и обещания летят с горки посуху. А в чем меня обвинять? На что сетовать? Это не сказка про Турандот, и головы отвергнутых сыновей не катятся по полу, удивленно подпрыгивая. Так ли, иначе, но, распродав не нужные мне активы, я уплываю вместе с папиным состоянием. Конечно, перед отъездом я бы хотела сказать вам что-нибудь утешительное, что, например, немец-учитель и моя престарелая тетка встретились и полюбили друг друга, но этого не произошло. Учитель бесславно отбыл в Германию, прихватив мой телескоп. При случае оказалось, что хваленая бюргер-мама умерла совсем молодой, когда учитель был мальчиком, поэтому общение немца с матерью «через звезды» имело реальный смысл, и утверждать, что он тогда уже сбрендил, я не решаюсь. Что же касается моей тетки, то та, ввиду отсутствия любви и смерти, вдруг взяла да и тронулась, попав в один специальный дом. За теткино пребывание в этой обители скорби плачу я. У тетки отдельная комната. Там хорошо кормят и есть большой парк. Во всяком случае, как мне известно, тетка о’кей и не жалуется.
НещадовИ вот я живу в Нещадове, в доме бабки Прасковьи, как завещал в последнем письме дед Андрей, скоро пять лет. Живу уединенно и почти что безвылазно, не считая автомобильных прогулок в окрестные поля да леса, а также кратких отлучек на маленьком самолете в районный центр за покупками. Впрочем, летаю все реже, ибо мои желания пришли в полное соответствие с элементарными нуждами, для удовлетворения которых в Нещадове имеется все. Я даже не понимаю, зачем люди мотаются в центр, — чего не хватает им здесь для повседневной жизни?
Почта доходит до нашего городка с перебоями, в зависимости от кондиции дороги до Нежопова-Недоклюева (упомянутый выше райцентр). Телефонных проводов сюда пока что не провели вследствие топких болот, подходящих к Нещадову с юга, непроходимых чащоб, окружающих его с севера, а также по причине отсутствия оных с запада и востока. Разумеется, мои люди наладили связь с большой землей через висящий спутник, но я этой связью не пользуюсь — ведь позвонить на тот свет я все равно не могу, а на этот мне пока незачем.
Местные нас не жалуют, даже пытались меня прибить — ухайдокать не то вилами, не то лопатой, но это вряд ли возможно, так как денно и нощно стоят на посту Илья, Никита и Макс, здоровенные такие детины — к ним не подступишься. Они у меня на все руки: колют дрова, рубят лед, около дома бабки Прасковьи построили новенькую избенку, в которой и размещаются. Местные намеревались избенку поджечь, обложив ее пропитанной керосином соломой, но уже загодя, на подходе, были застуканы Максом, который надавал им таких пиздюлей, что оставшиеся в избушке ребята, ни на минуту не прерываясь, смогли спокойно докончить вечернюю трапезу. Больше местные не суются, хотя обиду, разумеется, затаили и ищут то уязвимое, не омытое Стиксом место, в которое можно ударить. Но у мальчиков — еще с оккупированной Москвы начала тысячелетия — остались некоторые навыки и привычки, как ни смешно, даже в Нещадове оказавшиеся не лишними.