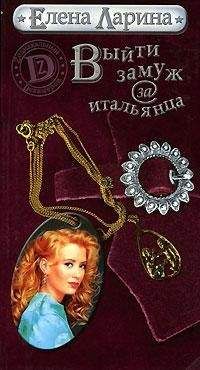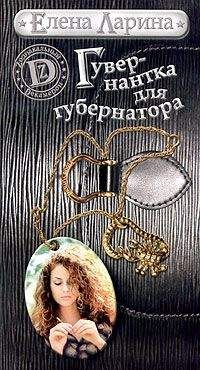Валерий Былинский - Адаптация
Однажды мы с Сидом ездили к его приятелю за анашой в Переделкино. Мимо нас, когда мы уже находились на перроне, пронеслась электричка – и загудела так, что Сид заткнул руками уши и, кривясь всем лицом, выхлестнул: «Ревет как слон!» А потом, когда мы шли обратно, и на подъезде к пешеходному переходу вновь зазвучал дальний электропоезд, я добавил: «Как раненый слон». И сказал, что слышал в Египте о пьесе с похожим названием «Крик слона». Сид сообщил, что знает ее автора: это его приятель, к которому мы только что заходили. Я вспомнил: сидит в темноте, ровный, прямой, темно одетый человек, вежливо и без улыбки смотрит вперед и одновременно в себя; курит косяк. Он выглядел как колонна – только тонкая. За ним на стене висел застекленный портрет Рудольфа Нуриева. Да и сам он на него похож, этот… как его? Фарид, как его, Нагим.
Когда на следующий день мы валялись на пляже, Аннет поднялась, накрыла меня тенью и поинтересовалась:
– Не хочешь окунуться?
Я жестом показал, что нет. Она искупалась, вернулась и, капая на меня теплой водой, наклонилась, щуря глаза: «О чем ты думаешь, а?» – «Трудно сразу сказать, о чем, – пожал я плечами, наполовину приоткрывая глаза. – А почему ты спрашиваешь, Аннет?» – «Ты не такой как всегда, вот почему». Тогда я сел, обхватил руками колени и пояснил, что похоже, наши отношения стали напоминать растущий сверху вниз цветок в горшке. «Как это – сверху вниз?» Я сказал: «Он не распускается, а превращается в опутанные землей корни и скоро увянет, погибнет. Понимаешь?» Она помолчала. «Это потому, что я сказала, что, у меня выключен материнский инстинкт?»
Я помолчал немного, щурясь от солнца, и ответил: «Да».
Едва войдя в номер, я прижался к ней сзади и резко задрал ее короткую теннисную юбку. Собственно, настроения для секса у нас не было. И вдруг накатило. Она вздрогнула, почти выскользнула, и вдруг по-кошачьи проговорила: «Можешь взять меня силой? Пожалуйста, так, да?..» Стала сопротивляться, перевернулась на спину, боролась со мной, упираясь руками, поджимая колени, пытаясь сбросить меня с себя, все время сипло выкрикивая: «Так, сильно, сильно, да!» А я долбил ее своей бесчувственной горячей колонной так, словно хотел разорвать ей ее трубы и пустить ей кровь. Она начала кричать что-то по-немецки. Я услышал «найн, битте…» и что-то еще. Я отпустил ее. Мы сидели, тяжело дыша, на ковре посреди номера. У меня была разбита губа.
– Спасибо. Подарок был что надо… – сказал я, наклонился к самому ее лицу и облизнул языком ее кончик носа. Я сделал это с нарастающей пустотой в груди. На носу Аннет осталось пятнышко крови.
Завтра мы оба улетели. В один день и даже час. Только в разные города. Наши отношения скончались в одно время – как в сказке о счастливой жизни влюбленных. Перед вылетом Аннет, которая молчала все время в такси по дороге в аэропорт, обхватила меня рукой за затылок и прижала мое лицо к своему; я почувствовал, что оно мокрое. «Прости меня», – сказала она мне в ухо по-немецки. Ее голос звучал как шелест травы. «И ты меня», – сказал я ей так же тихо. «Мне кажется, что-то еще случится между нами, – продолжала она по-русски. – Что-то хорошее». И она заплакала по-настоящему, не сдерживаясь. «Прощай, хороший мой человек», – она повернулась и отправилась в свой зал вылета, волоча за собой чемодан.
Когда я смотрел ей вслед, казалось, что Аннет ссутулилась, постарела. Но при этом в ней появилось что-то новое – стройное, близкое и настоящее – оно, это совсем другое, будто бы тоже одновременно шло в ней вместе с ней к ее самолету. Не поворачивая головы, Аннет на ходу вытянула вверх левую руку и помахала мне растопыренной пятерней, сжимая и разжимая пальцы. Я ответил ей тем же жестом, с улыбкой – наверное, она тоже улыбалась в этот момент. Мои глаза стали большими и прозрачными от почти выкатившихся и застывших в них слез. Как глаза Рыбы-шар.
Но слезы не выплакались. Я повернулся и, давясь от спазмов в горле, принялся смотреть во все стороны, на мелькающие щитки самолетных объявлений, на цветную толпу вновь прибывающих людей, на торчащую из толпы руку с табличкой туристической фирмы, на мчащихся куда-то сотрудников аэропорта, на солдат с «Калашниковыми» за спиной за стеклами зала. Если насильно долго смотреть на что-то, кроме предмета своей боли, то слезы, как и неродившаяся любовь, войдут обратно в человека и растворятся в нем; пройдут спазмы в горле, и все вновь выровняется, успокоится, как нарушенная случайным ветром гладь озера, моря или песчаной пустыни.
Последнее воспоминание о Египте: когда я зашел в туалет, чтобы отлить, увидел над писсуарами прикрепленный к стене клочок бумаги с надписью по-русски: «Денег уборщикам не давайте!». Когда я тупо смотрел на эту надпись и лил из себя мочу, справа от меня возникла коричневая ладонь, и рядом лицо бородатого человека в спецовке со шваброй. «Долляр надо, – говорил он, глядя на меня боком, с суетливой улыбкой, – долляр сюда, долляр туда, папир надо? – протягивал он мне рулон туалетной бумаги, – долляр надо, долляр туда, долляр сюда, ха-ха, туда-сюда…»
Я сполоснул руки под краном и вышел.
В небе пил из горлышка купленный в «Дьюти фри» за одиннадцать долларов «Тeachers» и вскоре, пьяный, заснул, примостив голову между прохладным стеклом окна и креслом.
Москва. Как много в этом звуке
О Москве почти нет хорошей литературы. О Петербурге, Париже есть, а о Москве – нет. Кроме, может быть, «Романа с кокаином». Москва – важный элемент справочников, рейтингов и мыслей людей, сюда приезжающих. Город скрытых неудачников и успешных одиночек. Нерастраченных несбыточных надежд. Я шел по Москве. Где-то в районе Садового кольца, вдоль безлюдного тротуара. Было полпятого утра – автобус из Шереметьево высадил меня возле Речного вокзала. На нанятой машине я подъехал к центру и решил дальше просто идти. Шел, как все. Но был как я. Как и все, впрочем.
Земля – какое странное образование в черном безвоздушном пространстве, где нет жизни на триллионы километров вокруг! А на земном шаре – есть. Запахи, листья, вода, любовь, сны, мечты. В каком возрасте мы, земляне? Раннем, зрелом, в старости? Сколько нам еще жить, а? Я-то вроде как жив сейчас. Но мертвое во мне шевельнулось, дышит, смотрит, оглядывается.
Было светло и прохладно. Город полит то ли поливочными машинами, то ли дождем. В одной из луж сидел пьяный бомж в ватнике с оторванным воротом и в бейсболке с надписью «Босс». Он пробовал, шевеля руками и ногами, танцевать в луже. Какой танец он вспоминал? Камаринского, вальс, рок-н-ролл? Бомжу было тяжело и лень, и он хмуро, опустив грязную волосатую голову, что-то бормочуще сам себе запел. Знает ли он, этот танцующий человек, зачем дышит здесь, на этом земном шаре? Зачем течет в нем кровь и бьется, впрыскивая кислород в мозг, сердце? Спилась ли его живущая в солнечном сплетении душа или, молодая и невредимая, танцует сейчас вместе с ним?
Я тоже был пьян. Прихлебывал, останавливаясь, из горлышка «Тeachers». Курил. Мне было неплохо. Хотя знал, что умру. И не знал, будут ли у меня дети. Жаль, что только не люблю никого. Интересное дело: ты можешь сказать, например, что ненавидишь жизнь – и тебе поверят. Но если ты сообщишь, что не любишь вообще никого, никогда – все решат, что ты последняя сволочь. Или врешь. Любовь, выходит, главнее жизни. Да. Да? Но с жизнью почему-то расставаться тяжелее, чем с ней. Почему-то. Если бы приговоренному к смерти вдруг объявили, что его милуют – но с одним условием: он никогда не будет любить мать, отца, страну, Бога, женщину, сына, кошку, закат – он бы все равно ухватился руками за жизнь. Вы бы ухватились?
Что бы ты выбрал: жизнь или любовь?
А?
Ну да… правильно. Но я знаю – точно знаю – при каких условиях ты все-таки выбрал бы смерть вместо смерти любви. При одном условии.
Вот при каком: если бы в тот список смертей любви включили бы и слово «себя».
Напоминаю. И привожу весь список снова:
Если бы приговоренному к смерти вдруг объявили, что его милуют – но с одним условием: он никогда не будет любить мать, отца, страну, Бога, женщину, сына, кошку, закат, СЕБЯ – он бы не ухватился руками за жизнь. Только придурок или сумасшедший мог бы ухватиться. Или тот, кто бы решил, что его обманывают.
Но тот, кто знает, что обман абсолютно точно невозможен – не ухватился бы.
Да.
Да?
А вы?
Пришла пора перестать быть нейтральным. Или сдыхать, или жить. Серьезные мысли, не так ли? Но и они вызывают усмешку. Чтобы жить, нужно хотеть жить. Подыхать – это тоже нужно хотеть. А я бреду в середине.
Крик
Из пьесы Фарида Нагима «Крик слона»
СЦЕНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ДАЧА.
Кухня на даче в Переделкино. Полумрак. На столе лежит пачка «Беломора». Анвар включает радио на магнитофоне. Достает из кармана пакетик с анашей, вытряхивает табак из папиросы и набирает травки. Закуривает. Сидит напряженный, распираемый изнутри воздухом. Выпускает дым из ноздрей, потом изо рта. Все это он проделывает под музыку, пританцовывая. Даже дым выпускает ритмично. Докурив до половины, аккуратно, не сминая, тушит папиросу. Берет два стула и ставит их рядом. Садится на один из них лицом в зал, по-детски положив ладони на колени.