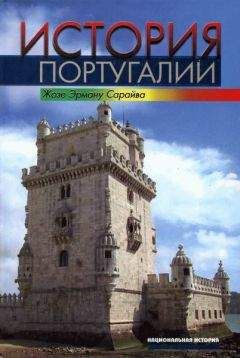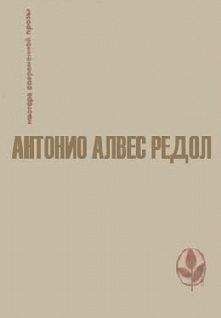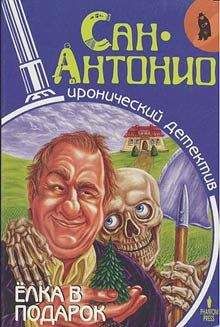Марта Кетро - Хоп-хоп, улитка
Вчера меня угораздило. И сегодня утром я проснулась в состоянии тонкости и хрупкости из первого абзаца. Именно после виски бывает такое — нигде не болит, здесь и сейчас все, в общем, неплохо, но внутри себя ты несешь темный сгусток неизвестности, который при неосторожном движении легко расплескать, и тогда тебя поглотит нечто, опасное своей непредсказуемостью. И ты плавно движешься, вся в настоящем моменте, ни в коем случае не оборачиваясь назад и не заглядывая вперед, оберегая содержимое своей головы, сердца и желудка… и вдруг… И вдруг, блин, и вдруг…
Итак, я просыпаюсь в этом хрустальном состоянии, а муж мой уезжает, уезжает. Уехал. А я снова ложусь спать, потому что с темным сгустком внутри очень сложно бодрствовать (от одного этого скрежещущего слова во рту кисло).
И вдруг. Он звонит мне из поезда и говорит, что забыл один из своих паспортов дома, поэтому через границу туда перебраться сможет, а вот обратно — вряд ли. Клянусь, некоторое время я боролась с искушением оставить все как есть. Но потом вспомнила, что денег мне дано на три дня (а если как я люблю, так и вовсе на один), поэтому придется совершить невиданное — встать прямо сейчас, одеться, поехать на вокзал и передать паспорт со следующим поездом через проводника.
Губы мои как засахаренные фиалки — синие и сухие, их не осквернило матерное слово, но в груди билась серебряная змейка и шипела «б…ский извращенец, б…ский извращенец» (ничего обиднее не придумалось). С тем и доехала.
А на вокзале страшно, по-настоящему страшно. Тут и там уроды — увечные, урожденные, моральные. Трясутся, кажут язвы, просят денег. Поезда проносятся со свистом, неизвестно, который мой. Справочный терминал бормочет невнятное, и я ничего не понимаю, вообще ничего. Как во сне — оказываешься в чужом мире, где правят небольшие грязные хищники, а крупный и сытый персонал только делает вид, что поставлен помогать и охранять, а на самом деле норовит в нужный момент отвернуться и попустить, чтобы эти маленькие разнесли на клочки случайного человека. И я, зверек пушистый и беззащитный, добыча в лиловой шляпке, в лапках — сумочка, задираю голову, вглядываясь в электронное табло, и замираю, как суслик, от ужаса. У меня в голове никак не складывается, что такое Бердянск — Кривой Рог — тот ли это поезд, который мне нужен, проходящий ли, едет ли он через нужную станцию и где вообще тот Бердянск и тот Кривой Рог. Наконец решаю, что тот ли, не тот, а название для всякого мужа символичное, поэтому отправлю с ним, с белым единорогом, наколю ему паспорт на заглавное место, и пусть летит, рассыпая искры.
Но до поезда почти час, и нужно как-то пережить в этом ужасе (повторяюсь — мне действительно, до видений, страшно). И я выбираюсь на нужную платформу, сквозь прямую кишку тоннеля, выхожу на воздух — уж лучше замерзнуть, чем дышать теплым ядом вокзала. Наверху лица свежие, провинциальные, и я пристаю к ним как маленькая лодка, — а точно идет, а точно останавливается? Точно! — и я успокаиваюсь. Но тут из тоннеля выныривает — это за мной, наверняка за мной — грязная черная женщина, трогает меня и злобно что-то говорит. Я убегаю, прижимая к груди сумочку и подобрав подол широкой юбки, но она вырастает передо мной из-под земли — может, другая, но с тем же лицом и с теми же словами. Самое странное, что ожидающие люди ничего не замечают, для них как будто не существует этих мутных мерцающих женщин: стоят, разговаривают о чем-то живом, круглом и насущном — о яблоках, что ли.
И только синий поезд спас меня, выдул ветром и гудком страшных женщин, остановился, открыл двери. Добрый проводник сказал «конечно», и заговор вокруг меня рассыпался. Недотыкомки утратили силу, попрятались, и я медленно и победоносно прошла через вокзал в метро, домой.
* * *Кажется, физика различает четыре агрегатных состояния вещества: жидкое, газообразное, твердое и плазма (если только последнее я не придумала). По аналогии у человеческой личности тоже существуют определенные состояния. Например, «говнюк» — вполне отчетливая характеристика консистенции и химического состава души.
Или «истерик». Примерно представляю состояние души истерички. Вообразите, что вам пришло в голову разжечь костер на окраине городской свалки. В конце сентября, естественно. Сложены в кучку сыроватые газеты, куски шифера, ящик, пластиковые пакеты, баллончик из-под лака для волос, остатки бутерброда и подожжены. Кастрик кое-как занялся, испустил вонючий дымок, а потом разгорелся и стал, как принято говорить, весело потрескивать. Но тут вы почему-либо решаете его потушить — например, он слишком разошелся и испустил серию микровзрывов. И вы тогда бежите к ближайшей луже, набираете водички в резиновый сапог, который валяется тут же, и заливаете ваш костер, а остатки пламени этим же сапогом прибиваете. И, не успев увернуться от мощного дымного выхлопа, вы вдыхаете запах гари, пара и паленой химии. Вообразили? Так вот, с учетом все еще тлеющего баллончика это и будет воплощением искомого состояния.
К чему это я? Недавно раздумывала о подвиде «сумасшедшая мать» (если добавить в костер использованный памперс). Обычно они говорят о себе с гордостью: «Я — сумасшедшая/безумная мать!», потому что это чуть ли не единственный вид узаконенных истеричек, «в своем праве», что называется. Мать имеет право любить свое дитя и беспокоиться о нем?! Ага, наконец-то. И она направляет весь тщательно скрываемый запас тревоги и послеродовой депрессии на бедного, ни в чем не повинного розового младенца. Что может быть слаще, чем вольно забиться в истерике над детской кроваткой с привлечением в зрители мужа, родственников, врачей, — «он высовывает язык и кряхтит, он умрет, умрет! вызовите „скорую“!». И все вокруг, вместо того чтобы привести ее в чувство народным средством типа «пощечина», радостно впадают в панику, созывают консилиум, а потом говорят с умилением: «О, безумная мать…» Более всего в данной ситуации жалко младенца, потому что врачи, прекрасно освоившие прием выкачивания денег под названием «гипердиагностика», прогонят его по всем кругам специального детского ада — анализы, обследования, невредные, но утомительные процедуры, пока у родителей не закончатся деньги, и можно будет честно сказать им: «Ничего страшного, израстется…». Это же больного ребенка нужно лечить от конкретных вещей, а здоровенького можно спасать бесконечно — от газов, запора, поноса, плохого аппетита, обжорства, вялости, гиперактивности и несимметричных складочек на ножках.
Впрочем, взросление ребенка не лишает женщину удовольствия, играть в безумную мать можно всю жизнь, эволюционируя в «несчастную мать», «солдатскую мать» или «любящую бабушку». Дополнительные ингредиенты для костра — школьные дневники, шприцы, портянки, засахарившееся варенье — можно добавлять по вкусу.
* * *Сегодня моя беленькая шубка чуть было не изменила окраску на цвет печального недоразумения.
Ехала в метро, и рядом со мной стоял очень приличный менеджер, сильно утомленный корпоративной вечеринкой. Он сказал, что, хотя и пьян, все равно видит, как я прекрасна, и если бы не его состояние, то непременно попытался бы со мной познакомиться. И тут поезд резко дернулся, останавливаясь, менеджер стал валиться на меня, но я оказалась быстрее и отпрыгнула в сторону. А на то место, где могла быть моя шубка, выплеснулось содержимое его желудка. И в наступившей тишине полупустого вагона отчетливо прозвучал внезапно протрезвевший голос менеджера: «Простите. Это было печальное недоразумение».
Он стоял и смотрел вниз, и я тоже посмотрела. Теперь я знаю, из чего состоит печальное недоразумение: винегрет, помидоры и колбаска. И цвет у него свекольный.
Простая жизнь
В марте все заболеют. Ну да, ветер вдруг покажется теплым, снег превратится в дождь, и мы снимем шубки, чтобы не намокли, и в самом конце марта простудимся и проваляемся в жару весь апрель, и только к маю те, что выживут, смогут на слабых ногах подойти к окну, чтобы увидеть новые листья.
И мне это нравится.
«Ты должна завести двоих детей», — говорит мама, и я сразу же, минуя рассудок, вижу двух мальчиков лет пяти, со стеклянными глазами, которые бегают по кругу, механически повторяя «гиго, гиго», и у каждого из впадинки под затылком торчит небольшой железный ключик. Ты с ума сошла, мама, отвечаю.
Ничего не имею против обращения на «вы». Не того, старосветского, между мужем и женой нарядного «Вы», под которым спрятан несвежий домашний халат — невидимый, но ощутимый. Не бледного от гнева дуэльного «Вы»; не торжественного самоуничижительного «Вы», подразумевающего вокруг серый песок каких-то бесчисленных «мы».
Не задыхающегося от почтения «Вы», которым поклонницы величают Его в записочках; и не пренебрежительного «вы» к толпе.
Нет, мне нравится то долгое бархатное «вы», обозначающее определенное расстояние между нами, каждый сантиметр которого ощутим, каждый обласкан нашим вниманием и драгоценен, потому что мы оба знаем, как легко смять, скомкать и утратить дистанцию навсегда (утратить, соединившись или разойдясь слишком далеко, — не важно).