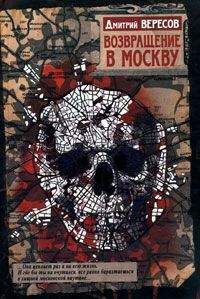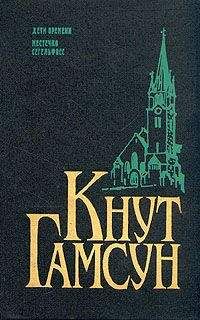Энтомология для слабонервных - Качур Катя
– Бэээ-эээ-эээ, – вдруг очнулась одна овца, мгновенно передав эстафету подругам. – Бээээ-эээ-эээ, – многоголосьем ответили остальные Машки.
Максим щёлкнул задвижками, откинув вниз зелёную деревянную шаланду[27].
– Давай, Аркаш, не тормози, опоздаем, – подбодрил его отец, – а вы, девочки, подвиньтесь! – крикнул он обалдевшим овцам.
Подставив под Аркашкино колено ладони, Максим подкинул его наверх, дав возможность протолкнуться среди плотных овечьих боков. Потом подал в руки рюкзак и намертво закрыл борт.
– Ну чё? Нормально? – подмигнул Иванкин.
– Отлично! – измученно улыбнулся Аркашка. – Поехали!
Максим вернулся к кабине и отлаженным движением крутанул рукоятку. Двигатель затарахтел, Машки заволновались, заблеяли, та, которая сидела стреноженная в кабине с мешком на голове, издала минорное «быэээээ». Отец потрепал ладонью её шерстяной окорок и тронулся с места. Аркашка, растолкав соседок по кузову, немного согрелся в массе дружелюбных кудряшек, уселся на корточки и оперся локтями о край борта. Большие Прудищи медленно поплыли мимо ленточкой разноликих деревянных домов, шеренгой заборов, крышами колодцев, остатками крон пожелтевших садов. Мокрая грунтовая дорога вилась, как некрепкий почерк школьника из-под текущей перьевой ручки. Аркашка похлопал себя по нагрудному карману, проверив купленный ещё в июне железнодорожный билет, и глубоко вздохнул, чувствуя логическую незавершённость, казалось бы, доказанной теоремы…
* * *
На затопленной с вечера печи Улька лежала, разметав руки и ноги. Всю ночь она не давала сёстрам спать, бредя и натягивая на себя пуховое одеяло. Жар, как тот, что терзал её в начале лета, снова ломил кости и сковывал мышцы. Перед рассветом она проснулась, нащупала в новом валенке, служившем подушкой, картонную коробочку с жёлтыми горошинками витамина С и жадно засунула в рот четыре штуки. Гоняя шарики под языком, немного успокоилась и наконец отключилась, пропотев и отдавая болезни последние силы. Утром не заметила, как проснулись и слезли с печи сёстры, не слышала мамину возню на кухне, не чувствовала топанья ног по деревянному полу. Первым звуком, который прорезал её сознание, был визг, узнаваемый из тысячи визгов, не дающий шанса на спокойное завершение сна.
– Вставай! Улька! Вставай! Аркашка уезжает! Дядь Максим тока тронулся из двора!
Зойкин голос, пронизанный пучком режущих струн, буравил мозг и вынимал его из черепной коробки. Улька приподняла тяжёлые веки и увидела над собой оранжевую в чёрный горох материю.
– Ар-каш-ка, – по слогам произнесла Улька, мучительно возвращаясь в реальность. – Ку-да у-ез-жа-ет? Он в боль-ни-це…
– Нет, нет, – трясла её за плечи Зойка. – Его выписали, его перепутали с другим парнем, которого на мельнице-пролетарке пырнули! Да вставай же!
Улька резко села и тут же упала на спину – печка, Зойка, рассыпанные по одеялу витаминки, закопчённый потолок закружились в её голове, как неуправляемая карусель.
Макарова схватила её за руки, рванула на себя и начала бить по щекам.
– Быстрее, коза, быстрее! – Она лупила по Улькиному лицу наотмашь, будто хотела выбить мозги. – Бежим!
Одурев от неожиданной боли, Улька, однако, пришла в себя и соскочила с печи, не одеваясь, благо заснула в платье. Второпях, отточенным движением натянула растоптанные кеды и выбежала во двор. За ней, стирая пальцы о рваные ремешки сандалий, устремилась Зойка. Солнце, лениво выползающее из небесного кармана, ещё не светило, а лишь обозначало свои намерения. Над размытой колеёй, уводящей вон из деревни, висел утренний туман. В самом конце улицы он уплотнялся, мешаясь с выхлопными газами папиного ЗИСа – грузовика, стремительно увозящего Аркашку в иной мир: прогрессивный, индустриальный, энергичный, кипящий возможностями и достижениями. От забитого, обветшалого, прокисшего деревенского бытия оставалась только грунтовая дорога. И по ней, а точнее над ней, пружиня, отталкиваясь подошвой от кочек и камней, словно по воздуху неслась Улька. Спортсменка, будущая чемпионка мира по версии Егорыча, влюблённая, заплаканная девочка, поверившая в сказки Экзюпери и готовая умереть за главного синеглазого героя. Волосы, мокрые от утреннего жара, срывало с головы ветром, влажное платье стягивало взрослеющую фигурку, шнурки вот-вот грозились развязаться и прервать полубег-полуполёт. Но земля, вопреки формулам и законам, выталкивала Ульку вперёд, покорялась её нездешней силе и целовала ноги, будто на них были не кеды Ленинградской резиновой фабрики, а крылатые сандалии Гермеса.
Аркашка, прижатый со всех сторон тёплыми овцами, свесился с борта и смотрел вниз на вылетающие из-под колёс куски грунта. Оглянуться по сторонам он был не в силах – слишком больно отдавались в сердце знакомые дома, дворы, натянутые на столбы волейбольные сетки, брошенные до следующей игры мячи, тропинки, которые убегали в поля и терялись среди свежесобранных стогов. Но вдруг соседствующие Машки начали нервно переминаться на ногах и двигать толстыми боками. Главная из них, чья голова красовалась наравне с Аркашкиной макушкой, повернула морду и прямо в ухо гаркнула пронзительное «Быээээээээ!». Гинзбург подскочил от неожиданности, протёр глаза и метрах в ста увидел бегущую по дороге Ульку. За ней на горизонте маячила отстающая фигура в платье оранжевой божьей коровки. Счастье, пронзительное, горячее, хлынувшее по всем капиллярам, разошлось волной от пяток до макушки. Оглушённый, блаженный, сдавленный со всех сторон Аркашка обнял ближайшую Машку и расцеловал её чёрную глупую морду.
– Моя! – прошептал он, размахивая руками, как знамёнами. – Моя! – повторил беззвучными губами, наполняясь неистовым смехом.
Улька, алая от температуры, набирала скорость, но папа, не смотрящий в боковые зеркала, давил на газ и всё больше отрывался от бегуньи. Аркашка размазывал грязными ладонями слёзы на щеках и, как дурак, хохотал, заглушаемый рёвом мотора и гамом возбуждённых овец.
– Быээээээ… Быэээээ…. Быэээээ…
Слова переполняли его, умные, нужные, уместные, но в голове блеяли Машки, и глупый рот, не подчинённый мозгу, пытался перекричать овечью какофонию.
– Зойон, сыре саг! – орал счастливый Аркашка, размахивая над собой рюкзаком. – Увидимся во Франции!
Зачем это? К чему это? Легкомысленное, суетное, пустяковое… Что же главное? Улька стремительно отставала, подлый шнурок на резиновом изделии ленинградского завода всё-таки развязался, и она упала плашмя в грязь, замерев, не пытаясь сопротивляться, не решаясь поднять глаза. Слева и справа плыли колосья осенних полей, низкие облака, чёрные галочки редких птиц. Маленькая фигурка в центре дороги стремительно отдалялась, и, набрав в грудь воздуха, поднявшись во весь рост, над овцами, над колосьями, над небом, Аркашка крикнул на всю Вселенную, включая планету Экзюпери:
– Не забывай меняаааа! Буууулька! Бууулька! Бууулька Гиинзбууург…
– Бэеееее, – вторили восторженные овцы, нечаянные свидетели человеческой любви.
Улька, с разбитой коленкой, с разорванным платьем, с забрызганном глиной лицом, провожала взглядом утонувший в газовых выхлопах грузовик. Плечи её тряслись, губы дрожали в блаженной улыбке, сердечная стрекоза вырвалась из груди и порхала над грязью, плача и ликуя одновременно. Сзади скачкообразно приближалась смешная Зойка. Лиловая, пятнистая, потная, потерявшая по дороге обе сандалии, она наконец достигла Ульку и рухнула рядом на размокшую, набухшую колею. Не сговариваясь, они обнялись нелепо, комично, пачкая друг друга землистыми руками, и, выдохнув, легли на спину прямо посреди дороги. Солнце окончательно выкатилось на небо и отправило нежаркий августовский луч на нежные девичьи щёки. По-деревенски простое, безучастное к горю и счастью, оно одарило каждую последней летней веснушкой. Неровной, незамысловатой, неприметной, как цветочек в корзинке полевой кашки, как блик сиюминутной, скоротечной молодости…
Коронация пчелиной матки