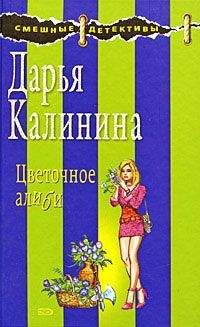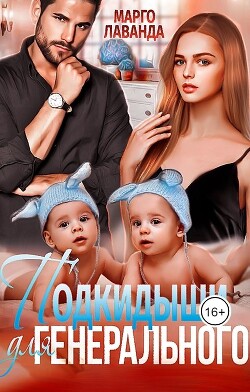Алиби - Асиман Андре
Макиавелли. К этому часу дня ему нужно проверить, как трудятся лесорубы. Он болтает с ними, проглатывает дневную дозу их непрерывного нытья, потом, напротив, препирается с теми, кто прикупил дров, но не платит, лишь постоянно выдумывает отговорки. К середине дня монотонный распорядок приводит его в таверну, где он перебрасывается словами с немногочисленными посетителями, а потом отправляется домой обедать в кругу семьи и «питаться тем, что может породить эта моя нищая ферма и крошечный надел».
Одиннадцать утра. Внезапный взрыв слепящего света — этакая перезрелая разрумянившаяся груша, которая утром упала на землю, на глазах истекает соком и требует, чтобы ее съели на месте, а то пропадет. Свет приобретает цвет почвы и окружающих построек: цвет глины. Извечной охры.
Полдень. Вдали перезвон колоколов — напоминание о времени, месте, обычаях, которые превращают этот мир в мир особый. Звук вольно разносится над сухой, пропитанной ароматами землею. Смогу ли я слушать перезвон далеких церковных колоколов где-либо в другом месте и не думать про эти?
Путь на виллу и от нее сделался знакомым. В доме я уже не теряюсь. Часть души радуется, что я так быстро освоился: это значит, я стал своим, прижился. Другая часть души предпочла бы теряться вечно, делая вид, будто я только что попал сюда и у меня впереди много-много дней, чтобы ко всему этому привыкнуть.
В деревушку Сант-Андреа в Перкуссине мы прибываем около часу дня. Я думал, что дорога будет трудной, как странствие вспять в прошлое, но времени на нее ушло меньше, чем на то, чтобы найти книжный магазин, где продаются письма Макиавелли.
Час дня. Два слова из латыни: fulgor (сияние) и torpor (летаргия, апатия). В какой именно миг дня fulgor превращается в torpor? Свет уже утратил прозрачность, белизну, он тяжело стекает по скатам крыш. Люди автоматически ищут тень. Солнце, как здесь говорят, «не идет на мировую». От земли поднимается мерцающая дымка, смотреть приходится сквозь ее колыхание. Воздух тяжелеет, в нем ни дуновения. Как описать плотную, всеобъемлющую тишину после обеда? Разве что через сравнение с самым нематериальным из всех звуков: насекомые.
Макиавелли: пообедав дома, автор «Государя» снова шел в таверну, где вливался в компанию хозяина, мясника, мельника и двух печников. Только никакие это не чосеровские пилигримы. Могу себе представить этих ехидных тосканцев, укрывшихся от солнца в убогой таверне. «С ними, — продолжает Макиавелли, — я на целый день погружаюсь в пошлость, играю в cricca [карточная игра] и в триктрак, из игры вырастают тысячи споров и бесчисленные обиды, сопровождающиеся оскорблениями, причем обычно мы деремся за мелкую монетку, однако вопли наши слышны до самого Кассиано». Никколо Макиавелли не мог пасть ниже.
Парадоксальным образом он с неистовством ненавидел именно то, что нам теперь нравится в сельских городках Тосканы, — от местного колорита и жителей до его убогого домишки в этой убогой деревушке в Кьянти. Дом, понятное дело, не продается, но я ничего не могу с собой поделать и предаюсь тому, во что естественным образом впадает любой житель Нью-Йорка. Я втайне прикидываю. Взвешиваю возможности. А если все же за какие-то деньги… Я бы утеплил домик, чтобы можно было приезжать сюда на Рождество, на Пасху, во время жатвы, на День благодарения — короче, круглый год. Начать новую жизнь. Vita nuova [27] — название раннего сборника стихов Данте, посвященного его возлюбленной Беатриче.
В этой неопрятной отупляющей вселенной, куда его забросил злой рок, Макиавелли находил единственное утешение в книгах. Данте, Петрарка, Тибул, Овидий. «Когда настает вечер, — пишет он, — я возвращаюсь домой и захожу в кабинет; на пороге снимаю рабочую одежду, покрытую пылью и грязью, надеваю пышное придворное облачение. В приличествующем виде вступаю я в почтенные дворы древних, меня любезно приветствуют, и я вкушаю пищу, которая принадлежит только мне и ради которой я появился на свет; здесь я не стесняюсь с ними разговаривать, выведывать причины их поступков, а они, по доброте своей, мне отвечают. Долгие часы я не чувствую скуки, забываю о своих бедах, не боюсь бедности, не ужасаюсь смерти. Отдаюсь им полностью».
Я давно подозревал, в чем суть Тосканы. Во множестве красивых вещей: маленьких городков, изумительных видов, отменной кухне, искусстве, культуре, истории, но главная ее суть в книгах. Может, Тоскана и предназначена для тех, кто любит жить в настоящем — ясной, изысканной, причудливой сложной жизнью в настоящем, но она еще и для тех, кто любит то настоящее, на которое падает тень прошлого, кто любит мир, если он слегка накренен. Для книжников.
Так что любовь к Тоскане пришла ко мне так же, как и любовь ко многим другим вещам: когда я смог слегка от них отстраниться. Я веду счет дням, потому что слишком сильно их люблю. Веду счет дням, заранее зная, что в один прекрасный день вспомню, насколько бестактно с моей стороны было вести счет дням, когда можно было попросту ими наслаждаться. Я веду счет дням, чтобы сделать вид, что, утратив все это, ничуть не расстроюсь.
Но при этом я знаю себя и знаю, что веду счет и другим дням — дням и месяцам, когда вернусь сюда и отыщу старый домишко на клочке земли и, не слишком капризничая и придираясь, начну делать этот мир своим.
Барселона
В это безоблачное солнечное утро из окна гостиничного номера открывается вид как с картины импрессионистов. Преодолев стеклянную дверь и трепещущую тюлевую занавеску — она регулярно вздувается, чтобы напомнить, что впереди еще один не слишком жаркий день позднего средиземноморского лета, — выходишь на балкон, облокачиваешься на тонкие перила и видишь прямо перед собой величественный барселонский собор Ла-Сеу, мерцающий под солнцем. Он стоит в самом центре старого городского квартала Барри-Готик, как вот и многие большие храмы стоят в центрах средневековых городов, которые пережили слишком много эпох, раскинулись слишком далеко и повидали слишком многое, чтобы помнить, кто, что, когда и как с кем натворил. Париж, Милан, Лондон и Берлин не просто превратились в величественные центры культуры, туризма и финансовой жизни. Это глобальные гипергорода. А что до Барселоны, то после почти четырех десятков лет безжалостного диктаторского правления генералиссимуса Франко она не просто возрождается. Она попала на гиперкарту и покидать ее не собирается.
С балкона, где я стою и пытаюсь осмыслить этот город, который по-прежнему от меня ускользает, мне видно нищенку, что попадалась мне на глаза уже много дней. Она вся в черном и неизменно сидит на ступеньке перед входом в собор, постоянно вытянутая неподвижная рука почти касается туристов, которые вливаются внутрь и выливаются наружу через узкие двери. Она там безотлучно и, видимо, уже не первый год жалостливо благодарит и подавших, и не подавших.
У меня был свой резон приехать в Барселону, однако — об этом меня предупреждали многие — резон полностью надуманный. Я приехал поискать в Испании остатки своей еврейской родни. «Остатки» — слово неподходящее. Я знаю, что нет никаких остатков и даже никаких следов. Но как еще назвать то, что я приехал искать, я не знаю. В определенные места мы едем затем, чтобы поискать соответствия тому непроявленному, что, возможно, уже и так есть у нас внутри: внешнее помогает упорядочить внутреннее, увидеть его яснее. Без внешнего — причем даже самое произвольное внешнее иногда тоже сойдет — некоторым из нас никогда не докопаться до внутреннего.
Согласно семейным преданиям, предки мои были родом из разных мест Каталонии и Андалусии. За последние пятьсот лет я первый представитель нашей семьи, оказавшийся в Испании. Однако, как вот когда я думаю про миллиарды долларов, мне непонятно, что означает пятьсот лет применительно ко мне, к моему телу, к моей живой руке, моей маме. Пятьсот лет — что-то непредставимое.
В августе 1391 года здесь, в Барселоне, по ходу кровавого погрома истребили почти всех евреев. В том же году огромное количество евреев по всему Иберийскому полуострову начали переходить в католицизм — добровольно или принудительно. Сто лет спустя этих новообращенных — их называли conversos и постоянно подозревали в религиозном двуличии — так систематично отлавливала испанская инквизиция, что по прошествии двух примерно столетий жестоких преследований сложилась ситуация, исходя из которой можно сказать, что сегодня среди испанцев куда больше евреев по крови, чем они согласны признать, и что тотальное искоренение еврейства нигде не увенчалось таким успехом, как в Испании.