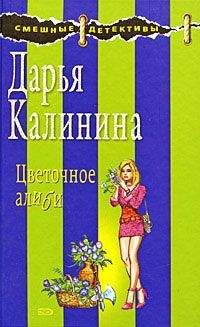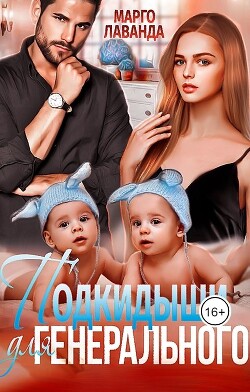Алиби - Асиман Андре
Впрочем, никто из обитателей площади нисколько не сомневался в том, что они находятся в центре вселенной. Они были щетинисты, язвительны, заносчивы, сварливы, злопамятны, фривольны, благовоспитанны, а превыше всего — склонны к замкнутости на себя, что в итоге привело к самоненавистничеству. Их мир, как и сама площадь, был полностью обращен вовнутрь, и в результате их не только снедало лукавство, но еще и подстегивали разъедающие изнутри, невротические формы интроспекции. Ни одно общество — включая и древнегреческое — не пыталось разъять себя настолько тщательно, аккуратно, заглянуть в жерло вулкана и постоять там завороженно, вглядываясь в худших его химер. Да, на людях они бодрились, но по большей части были пессимистами до мозга костей. Ирония, которую они выплескивали в мир, была мизерной в сравнении с той, которую они приберегали для собственных нужд.
Ларошфуко, писавший самую чеканную прозу в истории, высказал это точнее всех своих современников. Максимы его кратки, проницательны и безапелляционны. «Наши добродетели — это чаще всего искусно переряженные пороки». «Мы всегда любим тех, кто восхищается нами, но не всегда любим тех, кем восхищаемся мы». «Не будь у нас недостатков, нам было бы не так приятно подмечать их у ближних». «Сознаваясь в мелких недостатках, мы тем самым пытаемся убедить общество в том, что у нас нет более существенных». «В невзгодах наших лучших друзей мы всегда находим нечто приятное для себя».
Сегодня громкое эхо пессимизма и интриг на площади почти угасло. В аркадах пристроились художественные галереи, лавочки, рестораны, даже крошечная синагога и детский сад. Доступ на площадь Вогезов разрешен не только тем, у кого есть ключ, — как оно было когда-то. Теперь в теплый летний полдень один из четырех ухоженных газонов — французские садики всегда делят на четыре части — открыт для всех, и здесь влюбленные и родители с колясками могут устроиться на травке, в манере, которую до сих пор еще нельзя назвать привычной для Парижа. Вокруг площади сосредоточена вся культурная жизнь квартала Маре. В двух шагах — оперный театр Бастилии, чуть подальше к западу — музей Карнавале, к северу — Еврейский музей и музей Пикассо. Улица Вьей-дю-Тампль, одна из самых живописных в Маре, пересекает сохранившийся еврейский квартал.
По вечерам на площади собираются люди, которые мне напоминают о том, что стиль сохо либо французское изобретение, либо недавний экспорт из Нью-Йорка. В любом случае он говорит о том, что в современном мире всякое новшество мгновенно глобализируется. Однако копни чуть глубже… и там ничего не изменилось.
Именно поэтому я и дожидаюсь вечера. И тогда, сидя за столиком в ресторане «Коконна», под тихой аркадой Павильона Короля, можно увидеть, как вся площадь смещается на несколько веков вспять. Все возвращаются к жизни — все славные мужчины и женщины, ходившие по этим тротуарам: Марион Делорм, кардинал де Рец, графиня Лонгвиль, а главное, Ларошфуко, который приезжал на площадь Вогезов по вечерам и осторожно влек свое подагрическое тело под аркадой, направляясь к дому № 5, чтобы нанести визит мадам де Сабле. Взгляд его, вне всякого сомнения, смещался к дому № 18, где десятью с лишним годами раньше его бывшая любовница герцогиня Лонгвиль наблюдала из окна, как Колиньи сражается за ее честь и гибнет за нее. В молодости Ларошфуко вместе с кардиналом де Рецем и графиней вступил во Фронду, но кончилось дело тем, что все они начали писать друг на друга безжалостные пасквили. Теперь его участь — полное поражение и разочарование, но он все еще бодрится, называет свою маску маской, скрывая тем самым неудачи в любви, политике и во всем остальном; Ларошфуко приезжал сюда, чтобы хоть слегка разбавить трагизм своего мировосприятия, выковывая в компании друзей одну максиму за другой. «Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто ее видел». «Если судить о любви по обычным ее проявлениям, она больше похожа на вражду, чем на дружбу». «Никаким притворством нельзя ни скрыть любовь там, где она есть, ни высказать ее там, где ее нет».
Мне кажется, что я слышу стук копыт — гости едут на салон в экипаже, слышу оклики и перебранки хулиганов, шныряющих по площади, тявканье бродячих псов, скрип дверей, которые приотворяют и тут же захлопывают снова. Я вижу свет за стеклянными дверями. А дальше приходится воображать себе, что огни погаснут один за другим, а потом снова раздастся стук дверей, шагов, колес по мостовой, — не каждому хочется встречаться лицом к лицу с другими, но все вынуждены обмениваться дежурными любезностями под аркадой, направляясь к дому, что в двух-трех дверях, или только делая вид, что направляются туда, а не в какое-либо другое место.
Через час на площади тихо.
В последний вечер в Париже я захожу в «Амбруази». Дело к закрытию. Я пришел узнать название десертного виски, который мне подали в конце ужина накануне. Официант не помнит.
Он зовет сомелье, тот, будто актер, появляется из-за плотного занавеса. Его, похоже, радует мой вопрос. Виски называется «Пуа-Дхуб», выдержка двадцать один год. Я и глазом не успеваю моргнуть, а он уже приносит две бутылки, наливает из одной щедрую порцию, потом предлагает попробовать и из второй. Это, соображаю я, лучшее, что мне довелось пить за неделю во Франции. Удивительно, замечаю я, в самом конце приезда открыть для себя что-то шотландское, а не французское. Один из стоящих поблизости официантов подходит и объявляет, что в этом нет ничего удивительного. Почему, интересуюсь я. «Так не будь шотландца Монтгомери, который случайно убил Генриха II по ходу дружеского поединка, замок Турнель бы не снесли и, соответственно, никакой площади Вогезов бы и не было!»
Я выхожу из ресторана. Снаружи люди дожидаются такси. Все говорят по-английски. И тут будто бы ниоткуда возникают четверо юнцов на скейтбордах, мчатся по галерее, орут друг на друга под оглушительный дребезг колес, не обращая ни малейшего внимания на все и вся на своем пути. Потом, будто по команде, разом сгибают колени и, распялив ладони, будто серферы перед опасно высокой волной, поднимают передние колеса, перепрыгивают через поребрик на улицу, проносятся мимо дома бессердечного Руийяка, сворачивают к дому Виктора Гюго и исчезают в ночи.
Только после этого мне удается представить себе другую шумную компанию молодежи. Все они кричат — кто-то ругается, кто-то подначивает приятелей, некоторые сбиваются в кровожадные группы. Я слышу звон рапир, покидающих ножны, испуганные крики — все на площади внезапно насторожились, подбежали к окнам и застыли. Я смотрю и пытаюсь себе представить факелы в руках у четверых фехтовальщиков, как они качаются в непроглядной тьме в холодную ночь января 1614 года. Кажется, что это было очень, очень давно, и все же — глядя на огни на другой стороне парка — я начинаю думать, что это было вчера. И подобно всем, кто приходит на площадь Вогезов, я начинаю гадать, то ли миг из настоящего вклинился в прошлое, то ли прошлое раз за разом воспроизводится в настоящем. Впрочем, соображаю я, именно за этим ты и приезжаешь пожить тут целую неделю: не чтобы забыть о настоящем и воскресить прошлое, но чтобы запамятовать о радикальной разнице между ними.
В Тоскане
Я веду счет дням. Знаю, что не надо. Пытаюсь перестать. Но не перестаю, ибо я суеверен и мне нужно чем-то разжижать магию всякий раз, как внутри возникает готовность опустить барьеры и влиться в сонный тосканский пейзаж, который накладывает на тебя особое заклятие: заставляет думать, что он твой навсегда. Что ты здесь навеки. Что время остановилось в тот самый миг, когда ты свернул с шоссе и поехал по обсаженной соснами дороге, где от восторга перехватывает дыхание всякий раз, как взору твоему предстает домик, единственный смысл существования которого на земле, судя по всему, — ужать чудо целой жизни до размеров семи дней. Подобно любовнику, сознающему степень собственного опьянения, я капризничаю и придираюсь, но второпях не замечаю недостатков в мелочах, потому что главное способно — и тут хватает нескольких цветов, нескольких тональностей и перезвона колоколов по всей долине — тут же устыдить меня за жалкие потуги отрепетировать звонок будильника, который все это у меня отберет.