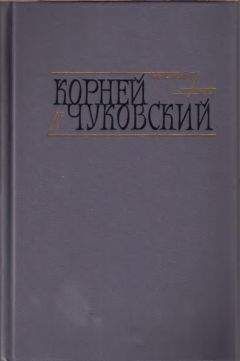Небесные всадники - Туглас Фридеберт Юрьевич
Она припала своим сотрясающимся плечом к его груди, а рука непроизвольно легла на плечо парня.
— А если ты обманешь, если обманешь меня? — всхлипывала она, обнимая его за шею и прижимаясь к нему, — по-твоему я некрасива? А другие-то долго красивыми будут? По-твоему, я не молода? Еле за тридцать, еле-еле. И у меня целый хутор, целый хутор!
— Но ты — вдова.
— А, ты о том, что я уже была женой другому? Так и что? Да ничего! А эти девки что? Ты же это лучше меня знаешь, сам знаешь! А у меня — хутор, целый хутор!
И немного погодя:
— Если б ты меня любил хоть немножко, если б хотел меня хоть немножко, то — она помедлила — то можно бы и записать хутор на тебя, и был бы ты хозяин, а я — хозяйка.
Она вдруг рухнула к его ногам и зашептала со слезами в голосе, изо всех сил сжимая огромные ручищи своими зелеными пальцами и упоенно заглядывая ему в лицо.
— Бери меня, бери мой хутор! Ну и пусть я не так красива, как эта Мари Каарна, и не так молода, как та пастушка, и пусть я уже вдова! Семь месяцев муж прожил со мной, всего семь месяцев — и помер. От тифа помер, желтым стал, как воск, белым, как береста. Что с того, что он был — был да помер! Ты вон сколько детей наплодил — ну и пусть! Лишь бы теперь у тебя никого не было, лишь бы ночами не шатался по деревням, не распевал за трактирной стойкой!
И немного погодя:
— Когда свадьбу-то сыграем?
— Как тебе угодно. А можно, — Конрад взглянул на Май — и поскорей, через месяц, полтора.
— Из-за э т о й?
— Какой э т о й?
— Этой Мийли, пастушки.
Он повел головой в сторону и пробормотал:
— Ты это о чем?
— Ты думал, я не понимаю! Я все понимаю! — снова шепотом заговорила Май, и в ее голосе зазвучало прощение. — Но это ничего не значит, совсем ничего! Ты боишься, что она в суд пойдет, шлюха такая! — что тебя заставят жениться на ней — на этакой шлюхе! Ничего из этого суда не выйдет, и тебе они ровным счетом ничего не сделают!
Но тут лицо у нее сделалось испуганным, и она остерегающе воскликнула:
— Но если ты так думаешь, давай сыграем свадьбу поскорее! Кто знает, что с нее, шальной, станется!
Он взглянул ей в глаза и прямо спросил:
— А если отступного потребуют — заплатишь?
— Да ты с ума сошел — вскрикнула она, вскакивая. — Сумасшедшим будешь, если заплатишь! Ты, что ли, виноват? Не ее ли это дело? Очень она тебе была нужна вместе с ее ребенком?! Какой из тебя кормилец детей — детей шлюхи?! И кто скажет, что этот — твой? Да у него, может, десяток отцов — а ты, выходит, корми, ты плати! Драть ее надо, а не денег давать! Совсем девчонка, а распутничает, на конфирмации еще не была — а уже с ребенком! Уж она-то будет язык за зубами держать, ты вот помалкивай!
Теперь, когда он принадлежал ей, Май защищала его, как львица. Она цепким репейником повисла на нем. Чтобы кто-то другой — ее собственная пастушка — заявляла права на этого человека! Не принадлежит он никому другому! Ни на мизинец, ни на волос! Да она зубами разорвет всякого, кто осмелится хоть пальцем на него указать!
Они чувствовали, что близки как никогда. Май сидела на лавке рядом с Конрадом, сложив руки на коленях, и смотрела на его склоненную голову. Застенчиво-счастливый свет любви трепетал на ее полном лице. Этот свет оттенял ее распущенные белесые волосы, падал на зеленые руки, и она снова становилась молодой и красивой. Она смотрела на мужчину, пьянея от чувства нераздельного обладания, и горячая волна любви текла по ее телу.
День клонился к вечеру. В комнате стемнело.
— И сегодня ночью ты уже из дома ни шагу, да? — прошептала Май, просительно заглядывая ему в глаза.
— Да не знаю я, — беспечно ответил он.
— Нет, ты не пойдешь, не пойдешь, нет! — женщина с жаром заламывала руки. — Тебя могут избить, могут убить! Хочешь — играй на каннеле, хочешь — не работай, пей понемножку, если не можешь без этого — только не уходи, не уходи больше!
— Посмотрим, — сказал он, и в уголках его губ проступила улыбка.
— Ты сумасшедший! — закричала женщина, ухватив его за плечо, словно щипцами. И слезы брызнули у нее из глаз. — Ты значит, думаешь, мне тут одно удовольствие сидеть как ни в чем не бывало, удовольствие ежиться в холодной постели и думать: вот сейчас он распевает там, на качелях, сейчас он пляшет в трактире, а сейчас спит на сеновале меж двух девок.
— Тогда не запирайся на ночь.
Но женщина заплакала, вся содрогаясь от безысходности:
— Я и не закрывалась бы! Да не могу я, не могу, как барышня с холма или как девка-пастушка. Как же мне тогда дальше жить, господи? Хозяйка ведь я — что люди скажут!
И зарыдав еще горше:
— Ладно, приходи, если никак не можешь без этого! Ну, а если не женишься, если обманешь меня — что мне делать тогда? Я же не девка!
Она ломала руки, она захлебывалась в жару и страхе, отстаивая счастье своей жизни, которое вселенский ветер норовил оторвать от нее, как колючку репейника.
Возвращалось стадо. Мимо низенького оконца в сероватом воздухе, как черные шары, проплывали коровьи животы, покачиваясь на развалисто ступающих ногах, заслоняя последний брезжущий свет, так что полумрак в комнате то сгущался, то рассеивался.
Мийли шла за стадом как во сне. Кожаный кнут змеей вился в траве. Кожаные постолы скользили, словно стеклянные: слежалая земля уплывала из-под ног.
Мийли больше не пела. Уже много недель как она позабыла о песнях. Она стала слишком взрослой и серьезной для них.
Ее угольно-черные глаза лихорадочно сверкали. Длинным кнутом она охаживала коров по фиолетовым глазам, кидала камни в их надутые животы. И когда коровы прыгали от боли и взбрыкивали от страха задними ногами, глаза ее злобно смеялись. Она била поросят, любопытных чушек, верещавших от радости или просто так, брала их за уши и науськивала собак, чтобы те потрепали их сзади. Поросята визжали, как на виселице, а девушка смеялась до икоты.
Вечерело. Огненно-красное солнце склонялось за желтые осины.
Из осинника слышались удары топора и треск ломающихся молодых деревьев. И время от времени из осинника доносилось посвистывание Конрада. Свистел он, когда заканчивал обрубать сучья с одного дерева и выбирал следующее.
Мийли обежала стадо, сбила животных в кучу, а потом поспешила в осинник. Сердце у нее бешено колотилось.
— Конрад!
Он как раз закончил обрубать сучья, поднял голову, посмотрел на Мийли, а потом уселся на камень, отирая лоб рукавом.
— Ну, что ты тут крутишься? — спросил он.
Губы его подернулись в насмешливой улыбке. Он выудил из кармана кисет, достал книжечку с папиросной бумагой, насыпал на листок табаку, провел языком по бумаге и потом скрутил ее.
— Ну?
Он закурил, несколько раз затянулся. Синеватый дымок медленно подымался в золотом осеннем лесу.
— Конрад…
Голос девушки задрожал. Она подошла и встала перед парнем. Он деланно улыбнулся.
— Ну, выкладывай, — насмешливо поддразнил он.
— Конрад, ты в самом деле на хозяйке женишься, на Май? — выпалила Мийли, задрожав всем телом.
— Не знаю, — протянул Конрад и сплюнул под ноги. — Видно будет, может, к осени поближе. Сейчас не время свадьбы играть. Сама знаешь, работа…
Ноздри у него подрагивали от смеха, но сам он держался невозмутимо. Снизу вверх он смотрел на девушку и выпускал кольца дыма в синий воздух, где мерцали золотые нити закатного солнца. Осины, точно невесты, стояли на краю поляны, в серебре и пурпуре от корней до верхушек.
— Ах, вот!.. ах вот как!.. — задохнулась Мийли.
— Вот так… А как ты считаешь? Я ведь в этих делах новичок.
— А мне — мне ты даже не обмолвился об этом!
— К слову не пришлось. А в церкви ты и сама бы услыхала во время оглашения.
Он с каким-то даже недоумением глядел девушке в лицо. Красный огонек на конце самокрутки то оживал, то затухал. В вечерней тишине мягко таял прозрачный дымок. Безмолвно склоняли ветви березы. В бледном небе синели на холмах дубы-исполины.