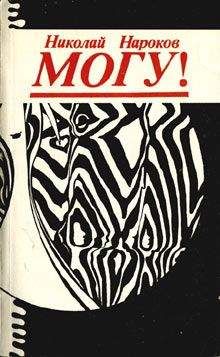Николай Нароков - Мнимые величины
И вдруг он почувствовал, что он страшно устал, до изнеможения устал, и не может стоять больше. Каждый мускул тела ныл: ныли опущенные руки, ныли напрягающиеся ноги, а особенно ныла поясница На плечах лежала тяжесть, ослабевшие колени подгибались, а в груди давило. Нестерпимо хотелось пить, и слюна сделалась густой и вязкой: казалось, что именно от этой слюны так страшно хочется пить.
Ни мускулы, ни нервы не держали тела. Он попробовал было слегка опустить торс, чтобы хоть на минуту освободить больную поясницу, но стало очень больно животу, и он выпрямился. Осторожно, боясь уколоться, он перенес тяжесть тела на правую ногу и освободил левую. Стало как будто бы немного легче, но через минуту эта правая нога начала так дрожать, что он качнулся и напоролся бедром на гвозди. Выпрямился, даже чересчур выпрямился. Затаил дыхание. Потом перенес тяжесть тела на левую ногу и дал правой немного отдохнуть.
Нестерпимо хотелось прислониться, во что бы то ни стало — прислониться. Обманывая себя, Варискин чуть-чуть подался назад, осторожно прислушиваясь спиной к гвоздям: он хотел хотя бы немного, хотя бы слегка опереться на них, чтобы они не кололи, а только давили, но чтобы он все-таки мог притулиться. И действительно, в первую секунду он почувствовал облегчение в пояснице, но не мог удержать усталые мускулы, которые наваливали тело на гвозди все сильнее и сильнее, требуя себе отдыха. Несколько гвоздей тотчас же очень больно впилось ему в лопатки. Он сразу выпрямился. Подергиваясь в судорогах озноба, замер в том единственном положении, в котором он не касался гвоздей.
Пить хотелось все сильнее и сильнее. Сухой язык царапал сухое нёбо. Горло подергивалось. И изнуряющим жаром стали гореть щеки.
Времени не чувствовалось: час прошел или пять часов? Серые стены, тусклая лампочка, неподвижность, промозглый холод и тишина были вне времени. Они не двигались. Из углов подступала и с потолка опускалась гнетущая, мертвая, безнадежная тоска обреченности. Шевельнуться — нельзя, уйти — нельзя, упасть нельзя. Можно ли умереть? Ни мыслей, ни представлений уже не было. Что-то бредовое, бессвязное и неосознаваемое начало наполнять его. И вместе с тем в нем начало расти то ощущение подавленности и уничтоженное(tm), которое возникло в нем, когда Жорка стоял перед ним и смотрел на него. Оно начало расти и, не сдерживаемое ничем, почти сразу достигло химерических пределов: он, Варискин, все больше и больше переставал чувствовать себя. Он, Варискин, как бы переставал быть. Его не было, но были серые стены, промозглая тишина и усталые, дрожащие мускулы.
И через бредовой туман его полусознания стала подкрадываться мучительная мысль: долго ли? Скоро ли все это кончится? Она, эта мысль, подкрадывалась незаметно, но едва лишь подкралась, как сразу овладела им всем. Варискин, конечно, не знал, что этой мысли никак нельзя допускать, потому что она мучительнее холода и гвоздей: ведь она дразнит концом, которого нет и… не будет! Эта мысль породила в нем нетерпение, которого раньше в нем не было, а от нетерпения усталость стала сильнее, гвозди — больнее, холод — нестерпимее, а тоска — невыносимее. «Долго ли еще?» И чем чаще Варискин спрашивал себя об этом, тем ему становилось все мучительнее и мучительнее. Нетерпение обострило в нем все, и поэтому все стало нестерпимее. «Долго ли? Долго ли?» Часы проходили, но они не воспринимались им, как обычные часы, как привычный счет времени, а тонули в мучительном «долго».
Вдруг звякнул наружный засов. Варискин, из каких-то последних сил, испугался. Что еще будет?
Вошел Жорка. Он, не затворяя за собою двери, вошел в камеру и остановился, кривляясь лицом и вихляя телом. Мохнатые брови силились что-то выразить и сказать, но в них не было выражения; они были у него только пучками волос.
— Стоишь, сволочь? — не разжимая зубов, спросил он. — Ну, и стой!
Он смотрел на Варискина, а Варискин смотрел на него. Они смотрели друг на друга и никак не могли отвести этот прикованный взгляд, словно оба были заворожены.
Ненависть ли еще сильнее вдруг охватила Жорку, захотел ли он еще ярче почувствовать торжество своей власти, но он подошел к Варискину и, буравя его своими злыми, узкими гляделками, ни слова не говоря, сильно и наотмашь ударил его кулаком в рот. Раз и два. Варискин отшатнулся назад и напоролся спиной на гвозди. Он вскрикнул, но во рту что-то всхлипнуло и пролилось: горячее и липкое. Он открыл рот, и кровь, смешанная со слюной, медленно и густо потекла по углам рта. И Жорка тут же еще раз сильно и умело ударил в зубы. Варискин мотнулся, вскрикнул и выплюнул выбитый зуб.
Жорка сделал полшага назад и посмотрел.
— То-то же! — с угрозой сказал он. — И стой еще, гад! Пять часов простоял, простоишь и еще. Заморю!
И опять ушел, прогремев засовом.
То, что было дальше, Варискин никогда не мог вспомнить. Сознание покинуло его, а вместо сознания им овладел бред, и один бред все время сменялся другим, но ни разу не было ни начала, ни конца. Если же вдруг открывалась минута просветления, то Варискин начинал истошно вопить, но даже и завопить он не успевал, потому что налетал новый бред, в котором вопля уже не было. Извиваясь от холода, он натыкался на гвозди, драл себе кожу до мяса, но не чувствовал ни боли, ни крови. Вконец обессиленный, он опускался коленями и бедрами, раздирал себе ноги, руки и спину, выпрямлялся, извиваясь, как полураздавленный червяк, опять опускался измученным телом и опять выпрямлялся, сотрясаясь в судорогах. А бред пролетал в его голове, бесформенный и полный ужаса. Этим бредом был Жорка.
Он метался. В секунды просветления он с отчаяньем вопил без звука: «Долго ли?» Но тут же налетала ледяная мысль: «До смерти!» И сознание гасло от этой мысли, завихрившись в разорванных обрывках. Потом пронизывала острая боль от раздиравших его тело гвоздей, потом судорога озноба кидала тело на новые гвозди, потом подкашивались омертвевшие ноги, потом несказанная тоска тисками сжимала сердце, потом открытый рот не мог уже хватать воздух…
Жорка продержал его в ящике двенадцать часов: это была «первая порция». Вероятно, он любил какой-то любовью свое изобретение, потому что он даже радовался, если ему приказывали «закатить двойную порцию!» Но радоваться ему приходилось редко: даже после первой «стойки у Жорки» обвиняемый сознавался во всем, в чем ему приказывали сознаться, и подписывал чудовищные обвинения против себя и против других.
Глава XVI
Варискин не помнил, — сам ли он оделся, когда Жорка выпустил его из ящика, Жорка ли одел его. Сам ли он дошел до своей одиночки, отнесли ли его туда? Он, босой (распухшие ноги с лопнувшей кожей не влезали в сапоги), упал на койку и потерял сознание, сразу провалившись в бездонное. И, конечно, он не видел, как караульный, дежуривший и коридоре, чересчур часто заглядывал к нему сквозь глазок в камеру, как подолгу он смотрел на него, неподвижного, и как после того глаза караульного становились строгими и осуждающими. А сам караульный начинал что-то беззвучно шептать, и рука его что есть силы стискивалась в кулак.