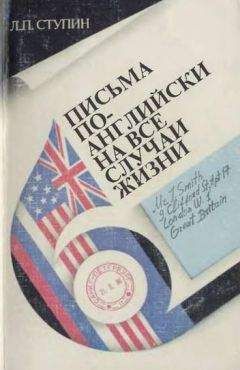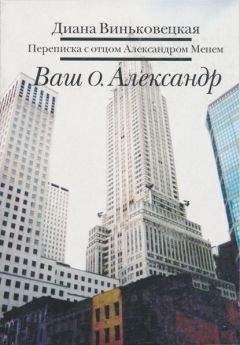Мулуд Маммери - Избранное
Ибрагим и Секура слушали молча. Они не смотрели на нее, но каждая сцена, которую она рисовала, воскрешала в их памяти другие подобные сцены, и в частности ту, что некогда очень смущала их, а теперь стала одним из самых дорогих воспоминаний. Они спустились тогда к реке, чтобы собрать маслины, и совсем разомлели под ласковым весенним солнцем. Они обошли всю рощицу, то и дело останавливаясь и обнимаясь в кустах. Под конец они заспорили, кому первому пить из родника, журчавшего в низине, никто не хотел уступить другому, и в конце концов они стали пить вместе, щека к щеке, прильнув губами прямо к ручейку. В такой позе и застала их Титем. С матерью Ибрагима такие вещи тоже, вероятно, случались в дни юности, но об этом она умалчивала.
Когда они разошлись, чтобы лечь спать, Ибрагим сообщил жене о своем решении. Неподалеку от Сахары открылись шахты, где добывают каменный уголь. Он наймется туда. Проживет там года два-три, даже больше, если потребуется, но во что бы то ни стало возвратится оттуда с достаточной суммой, чтобы выкупить оливковую рощу.
— Ехать на юг? Зачем на юг? — возразила Секура. — Для чего мне богатство, которое ты наживешь в Сахаре, если у детей не будет отца? Кто их защитит от других детей? Кто поведет их на базар в большой праздник? Разве я могу одна воспитывать их так, чтобы они стали настоящими мужчинами?
Секура, всегда покорная и давно уже привыкшая безропотно сносить нужду, снова заговорила воркующим голосом, как во времена Таазаста. Он, мужчина, уедет, а дома останутся две женщины, две жалкие женщины без защитника. Они будут сидеть вечерами у очага, сокрушаться о своей нищете, толковать о ней тоненькими, тусклыми голосами, уже ни на что не надеясь. Их уже не будет подбадривать хриплый мужской голос. Вот выдумал!
Отправиться в Алжир, к арабам, даже в Тунис, в Марокко — это еще куда ни шло, но зачем же в Сахару? Нет, лучше уж терпеть всю жизнь злейшую нужду, чем провести месяц в этой пустыне.
Он не перебивал ее, а только время от времени поглаживал ее длинные волосы. Он выжидал, когда Ку успокоится, и не возражал ей, потому что не мог сказать ничего нового.
— А как же я буду жить без тебя здесь? — Она обвела комнату рукой. — Если тебя не будет, бедность станет для меня совсем невыносимой. Мне станет страшно, и некому будет меня успокоить.
Но она ясно понимала, что ей не поколебать его решимости. Она попробовала прибегнуть к другому доводу:
— Один аллах властен над жизнью своих созданий. Он убивает, и он же дарует жизнь — это его слова.
— Да, но он сказал также, что милости его надо заслужить, — возразил Ибрагим, только чтобы сказать что-нибудь.
Тут она умолкла и тихо заплакала.
За три дня он занял больше денег, чем за все последнее время. Ведь еще неизвестно, когда он сможет выслать что-нибудь домой. Значит, перед отъездом надо обеспечить семью. И кто знает, удастся ли сразу же наняться на работу. А вдруг на первых порах придется только тратить, ничего не зарабатывая? Да и на дорогу нужны деньги.
Наконец, надо было подумать о Мулуде, старшем сыне. Ибрагим хотел, чтобы он во что бы то ни стало продолжал учиться, пусть сам он, Ибрагим, хоть подохнет. Достаточно и того, что отец неграмотный. А если Мулуд получит образование, он будет чувствовать себя в городах как рыба в воде, сможет противостоять каиду, сборщику налогов, всем сильным мира сего, которые его, Ибрагима, обижали, пользуясь его беспомощностью.
Но где раздобыть столько денег? Уж конечно, не у начальника; у Менаша тоже нельзя, так как во время болезни Аази Ку кормила грудью ее ребенка, и теперь Менаш, чего доброго, подумает, что Ибрагим требует с него за это вознаграждение. Да сохранит его аллах от этого срама!
Ибрагим обратился к Акли, но тот пришел в ужас, услышав о такой большой сумме; кроме того, он был уверен, что Ибрагим не сможет вернуть долг, и поэтому решительно отказал. На другой день, однако, Акли пришел к Ибрагиму и сказал, что хорошенько подумал и решил, что нельзя лишаться друга из-за денег, что, вдобавок, мы существуем на земле для того, чтобы помогать ближним кое-как сносить жизнь, «этот коварный дар того, кто там, наверху». В действительности же это Давда, узнав, в чем дело, велела Акли дать деньги. Она даже воспользовалась случаем, чтобы сказать, будто Латмас тоже просит дать ей взаймы, «конечно, без процентов». Латмас и не заикалась об этом, но Давда, зная, в какой та нужде, сразу сообразила, что представляется возможность выручить ее на время из беды. Акли сообщил Ибрагиму и об этом своем великодушном поступке, только не сказал, что исполняет желание Давды.
Чтобы получить разрешение на выезд, требовалось уплатить каиду. Ибрагим возмутился: это незаконно и несправедливо. Матери пришлось убедить его, что с этим освященным временем обычаем бороться бесполезно. Притом она скрыла от сына, что накануне отнесла жене каида свою последнюю курицу и корзиночку яиц.
* * *Он ушел холодным ноябрьским утром. Ушел на заре, как вор, не простившись ни с кем, кроме Акли. Для путешествия он извлек из сундука старый, совсем обтрепанный европейский костюм, который не надевал уже несколько лет. Пиджак стал ему широковат, брюки — слишком узки; галстука у него не было, потому что он так и не научился повязывать вокруг шеи эту тряпицу. Остальные вещи и провизию он сложил в некогда очень хороший чемодан. Чемодан был так набит, что чуть не трещал по швам.
Сидя у очага и поминутно ворочая полешки, Титем перебирала четки.
— Нет бога, кроме аллаха.
Иногда она останавливала указательный палец на бусинке, и ее ласковые старушечьи глаза подолгу всматривались в пламя; потом она вдруг приходила в себя, и снова слышалось:
— Нет бога, кроме аллаха…
А Секура не знала, за что взяться. Она поднималась в верхнюю комнату, тотчас же возвращалась вниз, утирала слезы, настаивала уже в третий раз, чтобы Ибрагим выпил кофе, который она приберегала для торжественных случаев. Перед самым его уходом Секура подумала, что он забыл свой клетчатый платок, стала его искать и нигде не находила. В конце концов оказалось, что платок в чемодане.
Ибрагим никак не мог оторваться от всего этого — от стен, покрытых копотью и давно уже не беленных, потому что не было денег на известь, от шороха четок, которые перебирала сморщенная старуха в грубом шерстяном платье, от слез рано состарившейся, а некогда такой красивой жены.
Детей не хотели будить, чтобы они не видели, как уходит отец, но они все-таки проснулись от суматохи. В глубине души Ибрагим был этому рад. Секура вздумала было опять уложить младших, но Маамар завопил. К счастью, Ауду еще накануне отдали Аази, которая уже окончательно выздоровела.
Ибрагим чувствовал, что если не уйдет немедленно, то и вовсе не уйдет. Он порывисто схватил чемодан, бросился к двери, попав на холод, буркнул «Брр», чтобы подбодрить себя, и сразу же исчез в темноте.
Заворачивая за мечеть, он смутно услышал два голоса мужской и женский. Он кашлянул. Голоса умолкли. До него долетел удаляющийся шорох шелкового платья и позвякивание женских украшений: казалось, кто-то убегает прочь.
За углом Ибрагима на мгновение ослепил свет карманного фонарика, но его сразу же потушили, и Ибрагим услышал из темноты:
— Здравствуй, Ибрагим. Уходишь?
Он узнал голос Менаша.
— Ухожу, — ответил он. — Да и у тебя, кажется, отпуск кончился. Пойдем вместе до Алжира.
К великому изумлению Ибрагима, Менаш был один, но голос у него дрожал от волнения…
В то утро Менаш встал на заре. Вещи он уложил накануне. Ему не хотелось никого видеть — даже отца и мать. Он ходил по дому босиком, чтобы не разбудить их. Сам приготовил кофе. Быть одному, совсем одному, одному уйти отсюда, ибо теперь в Тазге у него не оставалось никого и ничего. Поэтому-то он и решил отправиться уже сегодня, хотя отпуск кончался у него через день. Он не хотел всю дорогу терпеть присутствие Меддура, даже не предупредил его, что уезжает.
Он вышел из дому крадучись, с грубыми солдатскими башмаками в руках. Выйдя на улицу, он оглянулся по сторонам. Кто-то вынырнул из темноты, осветил его карманным фонариком и подошел; фонарик погас.
— Здравствуй.
То была Давда. Менашу показалось, что он теряет сознание, по всему телу его разлилась невероятная усталость. Глаза его еще были ослеплены ярким светом, поэтому он не видел ее. Пальцам никак не удавалось распутать шнурки.
— Давай, я справлюсь скорее, — сказала Давда.
И она нагнулась, чтобы зашнуровать ему башмаки. От волос ее пахнуло духами — все теми же. Сердце Менаша буйно забилось. Глаза уже привыкли к сумраку, и теперь он видел ее отчетливее. Она была не причесана, в одном платье с полосатой красно-черной юбкой. Зато она надела все свои украшения. От холода укрылась бурнусом. Она быстро завязала шнурки и выпрямилась.
— Ты не спрашиваешь, что я тут делаю одна, в такое время?