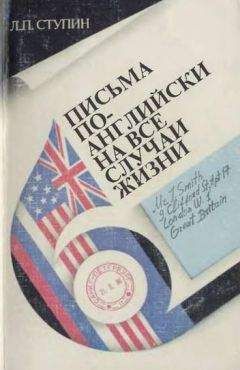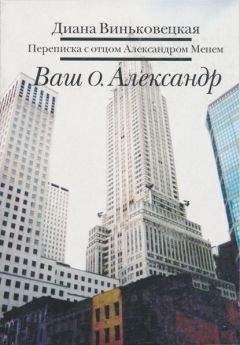Мулуд Маммери - Избранное
— Аази, — позвала она, — сестрица, это я, Давда. Ты слышишь меня?
Больная не шевельнулась. Тогда Давда нагнулась и тихонько прошептала ей на ухо, чтобы никто не слышал:
— Правоверные должны во всем покориться воле творца. Счастье твое, если аллах призовет тебя к себе: ты увидишь Мокрана и расскажешь ему о сыне.
Аази с трудом приподняла веки. Женщины заахали:
— Она узнала Давду!
— Не бойся, Аази, — продолжала Давда. — Я буду ухаживать за тобою, и ты поправишься.
Давда сразу же принялась за дело: заставила Мухуша вызвать из Алжира двух врачей, сама давала лекарства, следила за лечением, как настоящая сиделка, окружала больную неусыпными заботами, не подпуская к ней никого. Давда отстранила даже Латмас и — что самое удивительное — совсем перестала заботиться о своей наружности, но, как ни странно, казалась от этого еще красивее. Бессонные ночи у постели Аази придали ее глазам особенную глубину, а лицу, обычно румяному, — нежную бледность. Целую неделю она носила одно и то же простенькое платье, но, несмотря ни на что, оставалась по-прежнему красавицей Давдой.
Отеки больной стали опадать. Это началось с ног, потом, за одну ночь, Аази вдруг стала худой, как скелет. Скоро она смогла выпить несколько глотков молока. Сознание, что в этой борьбе со смертью она одержала победу, вызывало у Давды радостное возбуждение, обычно ей несвойственное. Через неделю к больной начали мало-помалу возвращаться силы: она уже могла говорить и то и дело просила принести ей младенца. Давда не отходила от нее ни на шаг.
— Оставь меня, пойди отдохни, — убеждала ее Аази, — я чувствую себя гораздо лучше. Тебе необходимо отдохнуть. Ты такая же красивая, как всегда, но у тебя утомленный вид.
— Это ты, Аази, красивая. Ты все еще хороша и всегда такой останешься. Твое очарование не пройдет с годами, оно не только в красоте телесной. Все они мечтали о тебе! Мокран, Менаш, Меддур, Акли… Молчи, не шевелись: ты слишком слаба… Ну да, и Акли. Что ж из этого? Акли тоже был влюблен в тебя, это только делает ему честь и ничуть меня не задевает. А вот на мне словно тяготеет проклятие: мужчин влечет только мое тело, и меня в конце концов раздражает их неистовая страсть, их пламенные взгляды. Мне самой противно, с какой легкостью я одерживаю над ними победу. Все они, один за другим, покоряются мне, нет ни одного, кто бы плюнул мне в глаза, а ведь я иной раз этого заслуживаю… Молчи, не возражай. Тебе одной я могу это сказать: мужчины сами заслужили свою участь. Чем больше я их презираю, тем больше похожи они на побитых собак. Теперь, когда наша с тобой юность прошла, я могу сознаться: я завидовала тебе, завидовала, что Мокран любил тебя ради тебя самой, именно потому, что ты Аази. Мне тоже хотелось иногда, чтобы кто-нибудь полюбил меня ради меня самой, но все они слишком страстно меня желают, чтобы любить по-настоящему.
— А Менаш?
— Даже он; только не будем о нем говорить! На свою беду, он сначала ненавидел меня, а потом влюбился, как все остальные.
— Сильнее, чем другие.
— Да, правда, гораздо сильнее, но не иначе, чем они… Если бы я уступила ему, если бы уступила своим желаниям, он добился бы всего, чего хотел. А потом раскаивался бы всю жизнь, да и я тоже. Ведь мне на роду написано быть женой Акли, провести жизнь с ним, а не с Менашем. Но не будем о нем говорить!
В дверь постучали.
— Кто там? — спросила Латмас.
— Это я, Менаш.
Латмас отворила ему. Менаш зашел узнать о здоровье Аази и, кстати, сообщил новость: Меддур опять появился в Тазге и Менаш вернул ему все деньги, которые тот одолжил Латмас.
— Аллах воздаст тебе и приумножит твое добро, — сказала старуха. — Этот долг уже давно не давал мне покоя.
— Дело в том, — продолжал Менаш, — что Меддуру сейчас особенно нужны деньги: он ищет себе невесту у мангелетов. Меддур решил жениться до того, как их полк отправят в Италию.
Так, деликатно и осторожно, Менаш дал понять Латмас, что учитель раздумал жениться на Аази. Это известие нисколько не огорчило старуху: она полагала, что недаром Менаш так старается отвадить Меддура, стало быть, сам хочет взять в жены ее дочку. Лишь бы только вернулись все юноши с этой бесконечной войны, где погибло столько народу!
Менаш не стал объяснять, почему Меддур вдруг отказался от брака, о котором еще недавно страстно мечтал. А дело было так. Уали, расставшись с Менашем после того ночного разговора, отправился к учителю; он заявил, будто хочет расспросить его, как человека сведущего, о подпольной организации. Меддур пустился в пространные объяснения, которых Уали не слушал. Вскоре разговор перешел на недавнюю смерть Мокрана и, естественно, на его вдову. Уали, судя по всему, привел столь красноречивые доводы, что убедил Меддура не только отказаться от женитьбы, но даже исчезнуть из Тазги на несколько дней. Меддур согласился на все; он просил только, чтобы ему вернули деньги, которые он одолжил Латмас. Уали обещал, что Менаш вернет ему долг.
— Впрочем, — добавил он, — если даже ты и потеряешь свои денежки, я уверен, что это тебя нисколько не огорчит. — Тут он щелкнул по зубу ногтем большого пальца. — Такой благородный человек, как ты, должен стоять выше денежных расчетов.
Меддур не смел настаивать, но Уали передал их разговор Менашу, и тот заплатил все долги Латмас.
— Благодарю тебя за все, что ты сделал для нас, Менаш, — сказала Аази. — Аллах воздаст тебе!
— Самое главное, что тебя удалось спасти от смерти, — ответил он. — И за это ты должна благодарить Давду.
— Когда я совсем выздоровею, мы устроим пир втроем.
— Нет, вчетвером, — поправила Давда. — Не забудь Секуру, она кормит твоего малыша.
— Меня здесь не будет, — вмешался Менаш, — через три дня я возвращаюсь в казармы. Но считайте, будто я с вами.
— Это совсем не то! — протянула Давда.
— Аази, я еще приду навестить тебя, — продолжал Менаш. — Непременно напиши мне, когда поправишься.
В это время Латмас принесла меду и пшеничную лепешку.
Аази съела немного меду, но она была так слаба, что с трудом могла следить за разговором, и глаза у нее слипались. Заметив это, Давда взбила подушку и уложила ее поудобнее.
— Вот так, — сказала она. — А теперь спи, будь паинькой.
И Аази уснула спокойным сном; черты ее исхудавшего лица, обострившиеся за время болезни, смягчились и разгладились. Чтобы не разбудить ее, Латмас на цыпочках вышла из комнаты.
Оставшись наедине с Давдой, Менаш не знал, что ей сказать, и она первая прервала молчание:
— Зачем тебе уезжать так рано, Менаш? Разве нельзя продлить отпуск еще на несколько дней? Дождался бы полного выздоровления Аази.
— Не все ли равно, где ждать? Здесь или там!
— Нехорошо так говорить. Ты неблагодарен по отношению к тем, кто тебя любит.
— Я что-то таких не встречал.
— Однако такие есть…
— Значит, они забыли об этом сказать.
— Может быть, и не говорили, но, по-моему, ясно дали почувствовать.
— Я слишком долго желал их, и теперь мне кажется порою, что я их ненавижу.
— А ты не думаешь, что иногда, по вечерам, они тоже тебя ненавидели? Ведь они ждали тебя так долго, так долго, а ты все не приходил…
— Должно быть, они ждали меня только в те вечера, когда я не приходил. Зато все долгие ночи, что я стоял на площади, считая звезды, где же они были, те, что ждали меня? Что они делали, с кем смеялись?
— Быть может, они смеялись с теми, кого не любят, а сами не спускали глаз с двери, ждали, не появится ли наконец ивовая трость Менаша?
— Ничто никогда не помешало бы мне прийти к тем, кого я люблю…
— Еще бы, ты же мужчина, почему бы тебе не попытать счастья?
— Какое же тут счастье?
— Неужели ты забыл, Менаш, как тяжела у нас доля женщины? Ведь она не смеет остаться наедине с мужчиной, она не смеет ждать по вечерам никого, кроме мужа, не имеет права, даже в самых сокровенных думах, вспоминать о ком-либо другом. Разве может она выйти на площадь к тому, кто считает звезды, мечтая о ней? Ей остается только мечтать о нем, жечь лампу до поздней ночи и душиться благовониями, чтобы понравиться ему, если он все-таки придет.
Послышались глухие шаги босых ног Латмас, и мать Аази вошла в комнату.
— Как сладко она спит! — сказала старуха. — Пожалуй, нам лучше уйти.
Ни тот, ни другая не тронулись с места. Латмас увидела, как разрумянились щеки Давды, каким чувственным огнем горят глаза Менаша. Она притворилась, будто ничего не заметила.
— Ах, совсем запамятовала, — сказала она. — Мне нужно зайти повидать На-Гне; пожалуйста, посидите с больной, пока я не вернусь.
Они услышали, как хлопнула входная дверь.
Наступило молчание, еще более тягостное, чем прежде. На этот раз первым заговорил Менаш.
— Но тогда почему же, — спросил он сдавленным голосом, — почему я мечтал и тосковал напрасно? Почему ты так долго мучила меня?