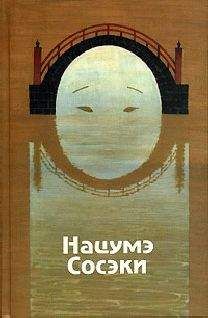Жан Жубер - Красные сабо
В саду, стоя рядом с Миной, я раздвигал листья и вдыхал слабый гниловатый запах земли и навоза. Я спрашивал:
— А ты-то еще помнишь войну?
— Ох, помолчи! Никак не пойму, что ты в ней хорошего нашел?! Посмотри на себя — глаза как у совы, и весь в пыли вывалялся. Ну, погоди! Если и дальше так пойдет, я их все пожгу, эти газеты!
Я кричал:
— Нет, нет, не жги!
— Такое чтение тебе не по годам. Смотри лучше, что делаешь, не затопчи мне ростки!
И, нагнувшись к грядке, она вздыхала:
— Ох, святой Вавила, всю спину разломило!
Однажды, заинтригованный этим таинственным Вавилой, я спросил бабушку, кто он такой.
— Понятия не имею, — ответила она. — Это я так, для красного словца.
Позже, раскрыв «Ларусс», я обнаружил в нем только одного Вавилу — епископа Антиохийского, замученного при императоре Деции, но, если не считать страданий, которые он перенес, никакой связи с трудностями садоводства я не уловил. Иногда, работая на огороде, Мина произносила еще одно заклинание, но это уже было прямо связано с ее мотыгой:
— Ох, труды наши не сладки, коли бог не дал лошадки.
Кто знает, может, слушая ее, я, пятилетний карапуз, уже тогда приобрел вкус к поэзии или по крайней мере ощутил сладость рифмы.
А Мина улыбалась, обнажая голые, без единого зуба, десны, которые ничуть не портили ее улыбки. Я, как сейчас, вижу ее глаза в светлых ресницах, седые волосы, собранные в пучок железными шпильками, и фартук, отвисший под тяжестью ярко-зеленых стручков фасоли.
Я часто спрашиваю себя, не родился ли я в саду или даже не породил ли меня сад. Первая моя фотография, как я уже говорил, представляет меня в возрасте нескольких месяцев на руках отца, держащего меня над капустным кочаном. Присев на корточки, он как бы поднимает меня с грядки на вытянутых руках, лицо у него растроганное, и он смотрит прямо в объектив. Я запеленут, с чепчиком на голове, личико у меня сморщенное, и гляжу я не в аппарат, а на капусту. В одних семьях дети рождаются в розовом кусте, в других ребенка приносит фея, ангел или аист, да мало ли кто еще. У нас же обычай повелел, чтобы дети появлялись более прозаическим способом — в капусте, впрочем, тут и возразить было нечего, ведь наши предки веками возделывали и растили этот деревенский овощ, который вместе с картофелем составлял их основную пищу. Капустный суп, медленно томящийся на очаге, солянка, горшок с тушеной капустой, служившей гарниром к подстреленной тайком куропатке, — вся наша история пропитана крепким аппетитным запахом горячей капусты; остывая, она оставляет свой въедливый, уже менее приятный аромат и в коридорах домов, где живут рабочие, и на кухнях деревенских ферм. Благодаря этому запаху, к которому примешиваются еще запахи кошачьей мочи и стирки, я берусь с закрытыми глазами определить социальный уровень любой семьи. Как раз по этой причине капустный запах сурово изгоняется из квартир буржуа, у которых обоняние, по-видимому, «более тонкое», как и интеллект. Итак, капуста — вот мой герб. Он меня вполне устраивает. И я не желаю другого, более благородного.
Я могу смело сказать: в моей жизни всегда были сады, так о других говорят, что в их жизни всегда были женщины. И когда я мысленно произношу слово «дом», то в это понятие обязательно включается и сад, но совсем не тот, на мой взгляд, искаженный образ сада с вылизанным английским газончиком, с плакучей ивой и колючими розовыми кустами, нет, сад — это еще и огород с редиской, помидорами, салатом и, конечно, с капустными грядками. Добавим сюда еще насос, кучу навоза, птичник и садок для кроликов, садовую утварь, составленную в углу сарайчика, где под потолком подвешены связки чеснока и лука, — и вот вам если не самый прекрасный пейзаж в мире, то по крайней мере самый трогательный, самый человечный, тот, к которому особенно прикипело мое сердце. Я могу сколько угодно восхищаться Ленотром, но к его «садам» у меня душа не лежит.
В моих же садах, которые я люблю, в таких простеньких и скромных садах я научился многим вещам не менее важным, чем те, что преподавали мне в школе. Тут, я знаю, я рискую быть непонятым многими моими читателями, а те, которые поняли бы меня, наверняка не прочтут этой книги.
Летом, в хорошую погоду, мой отец поднимался затемно и возился в саду, прежде чем отправиться на завод. Нет ничего милее тех минут летнего утра, когда солнце только еще встает. Вскакиваешь с кровати, отдохнувший, бодрый, распахиваешь дверь и бежишь по дорожкам, по еще прохладной после ночи земле. Все вокруг безмолвствует, падающий сбоку утренний свет оживляет листву, и можно копать, полоть, окучивать до тех пор, пока солнышко не начнет припекать как следует и не высушит вырванные сорняки. Как я жалею, что редко отваживался вставать в этот час и потому так мало наслаждался этими ранними утрами. Но изредка мне все же случалось просыпаться «на зорьке», и тогда я бежал босиком по чуть теплой земле.
— Гляди-ка, прибежал! — говорил отец. — Встал уже?
— Ага. Давай я тебе помогу.
— Ну, спасибо. Ты молодец. Подбирай-ка сорняки да относи их вон туда, в тачку.
Я вдыхал утренний воздух, запах влажной земли, еще смешанный с ароматами ночи.
Отец взглядывал на часы: «Ого, мне уже пора!» Он быстренько выпивал свою чашку кофе, а заводские гудки уже заводили первую песню, потом он прихватывал зажимами брюки, вскакивал на велосипед и уезжал.
Вечер был более благоприятен для сбора овощей и фруктов, а главное — для поливки. Со всех сторон доносилось пыхтенье насосов, позвякиванье цепей, на которых поднимали ведра с водой. И голоса слышались из-за заборов — одни и те же голоса, одни и те же фразы: «Теплый нынче вечерок!», или: «Что ж, погодка по сезону!», или: «Гляньте-ка, луна какая красная, быть завтра дождю!» Если ветер дул со стороны леса, он доносил запах паровозной гари. Быстро темнело, наступал час летучих мышей, ночных бабочек и жаб.
Еще в раннем детстве отец научил меня окапывать и мотыжить. Он показал мне, как держать мотыгу, чтобы не уставала рука. Научил, как втыкать ее в землю, не слишком глубоко, немного наискось, как разбивать ею тугие комья, как разравнивать землю, добиваясь, чтобы грядка получилась высокой. Нужно было работать в одном ритме, не ускоряя движений. Отец все делал необычайно тщательно, и, когда заканчивал грядку, она получалась у него ровненькая, красивая. Дорожки он прокладывал, натягивая веревку, это было совсем не обязательно, но он поступал именно так. «Для красоты!» — коротко бросал он, не вдаваясь в долгие рассуждения. Он, видимо, чувствовал, что красота — это главное, и терпеть не мог тех дикарей, которые варварски обращаются с землей, он говорил, что они поступают «как дикие кабаны». Для них земледелие было делом сугубо практическим: едва посеяв, они стремились поскорее снять урожай; в глазах отца эти люди не заслуживали никакого уважения. Сам он, закончив работу, долго еще стоял, скручивая сигарету и краешком глаза посматривая на сделанное тем растроганным и одновременно скромным взглядом, какой позже я не раз подмечал у некоторых художников перед своим творением.
А потом — ожидание всходов, потом прополка, поливка, окучивание — все эти действа, помогающие семени постепенно превратиться в плод. Именно работа в огороде, как мне думается, и преподала мне урок терпения и научила понимать, что время лучше всего отмерять в этом ритме, который ничто не в силах изменить. И еще я довольно скоро понял, что лучший наш инструмент — человеческая рука: она подрезает, ровняет, чистит и даже разрыхляет почву без риска повредить корешки. Ребенком я не испытывал потребности найти название этому соприкосновению руки с землей, но позже слова возникли сами собой: прикосновение, ласка, любовное проникновение. Этот контакт с землей я всегда переживал с тайной радостью, словно от нее передавалась мне, переливалась в мои жилы какая-то неведомая сила. Существование мое неполно без земли, без этого запаха перегноя, аромата растений, ярких переливов листвы, журчания воды между грядками, без ощущения на своем лице легкого ветерка и солнечных лучей, мимолетного касания насекомого или птицы — без всего, что дарит сад тому, кто чувствует свою сопричастность с ним.
В эти последние недели, когда в комнатах поселились тоска и смерть, я порой выходил из дома, где медленно угасал мой отец, и шел в сад, чтобы прикоснуться к земле, взять щепотку, растереть ее в пальцах; и если даже навязчивые образы не исчезали совсем, то хотя бы чуточку просветлялась душа, на меня постепенно нисходило некое успокоение, почти умиротворение. Именно в саду я почувствовал то, о чем раньше только смутно догадывался: что жизнь и смерть тесно переплетены и что, соединяясь, они как бы оплодотворяют друг друга.
И огород тоже нельзя возделывать без некоторого колдовства. Тот, кто вздумает обойтись тут одним только трезвым рассудком, после первых же обманчивых иллюзий неизбежно испытает горькое разочарование. Природа, заключенная в этом микромире, покорится лишь чуткой и искусной руке, бессознательно угадывающей и свою власть над землей, и пределы этой власти. Тут ничего не добьешься ни грубым принуждением, ни навязыванием своих законов, здесь идет нежная и любовная борьба, непрестанно возобновляемая, ищущая слияния, совпадения. Существует тайная философия сада, и всякий истинный садовник одновременно и мудрец, и поэт. А тот, кто ограничивается одной «наукой», вырвет у земли лишь видимость плодов, вздутых, бесцветных и безвкусных.