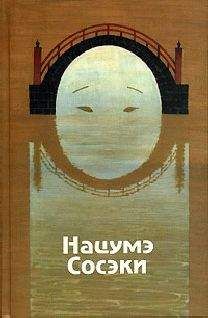Жан Жубер - Красные сабо
И огород тоже нельзя возделывать без некоторого колдовства. Тот, кто вздумает обойтись тут одним только трезвым рассудком, после первых же обманчивых иллюзий неизбежно испытает горькое разочарование. Природа, заключенная в этом микромире, покорится лишь чуткой и искусной руке, бессознательно угадывающей и свою власть над землей, и пределы этой власти. Тут ничего не добьешься ни грубым принуждением, ни навязыванием своих законов, здесь идет нежная и любовная борьба, непрестанно возобновляемая, ищущая слияния, совпадения. Существует тайная философия сада, и всякий истинный садовник одновременно и мудрец, и поэт. А тот, кто ограничивается одной «наукой», вырвет у земли лишь видимость плодов, вздутых, бесцветных и безвкусных.
Об этом колдовском даре огородника мой отец всегда помалкивал, а уж дядя Жорж тем более. Они унаследовали его, правда в несколько ослабленном виде, от отцов и дедов, а пребывание на заводе и в городе, не уничтожив его полностью, лишь сделало более скрытым, так что все это неосознанно сохранялось скорее в жестах, нежели в словах. Пожалуй, именно от Алисы я перенял какие-то крохи этой смутной магической власти над землей — ведь женщины все по натуре немного колдуньи, жаль только, что в те детские годы я был к этому не слишком внимателен. Да и позже, лет в восемнадцать, пытаясь развеять свою тревогу перед жизнью, я довольно глупо пыжился, изображая из себя трезвого рационалиста, может, даже слегка подсмеивался над Алисой, глядя на нее свысока в своей юношеской заносчивости, как на существо примитивное. Так что теперь мне приходится делать усилия, чтобы вырвать из глубин памяти скудные воспоминания о ее действах, словах и жестах, я как будто пытаюсь вызвать покойника, in extremis[6], из могилы. И здесь мне не приходится рассчитывать на мать, она не слишком-то жаловала Алису, раздражавшую ее, и поэтому, как я подозреваю, поторопилась забыть все с нею связанное.
Пользуясь редким досугом после целого рабочего дня на заводе и маниакально усердного ведения хозяйства, Алиса время от времени устремлялась на огород, как бросаются в бой. «Завтра с утра пораньше встаю — и вперед!» — заявляла она. Я так и вижу ее летом, на босу ногу, в стареньком халатике, под которым, по-моему, не было ничего, кроме знаменитых необъятных бумажных панталон, которые иногда развевались на бельевой веревке. Крепкими руками, чуть прищуренными глазами и спущенной на лоб до самых бровей серой косынкой, под которую были подобраны волосы, она напоминала мне одну из русских или польских эмигранток, живших в рабочих поселках по ту сторону луга. Впрочем, вряд ли ей польстило бы подобное сравнение: она, как и многие французы, относилась со слегка презрительным снисхождением ко всем этим «полякам», лузгающим семечки и грызущим огурцы, горьким пьяницам, имевшим, однако, славу усердных работников. С тем же обидным пренебрежением поляки относились к аннамитам, которые в свою очередь молчаливо презирали негров. Все это вавилонское столпотворение подчинялось своей хрупкой иерархии, которая как бы сама собой разумелась, приводя, пожалуй, скорее к разобщенности, нежели к злобе и стычкам.
Итак, Алиса более, чем когда-либо, выглядела славянкой, сражаясь, борясь со своим садом в стиле, весьма отличающемся от стиля моего отца: с лихорадочным нетерпением, почти страстью. Но ей были ведомы секреты.
Деревья следует сажать на святую Катерину, когда, «что в землю ни воткнешь, все растет». Лук сеют на святую Агату, фасоль — на зорьке в день Вознесения, а горох — на святого Мориса, каковой праздник ей трудно было бы забыть, так как то были именины моего отца.
На святого Мориса горох сажай,
Соберешь богатый урожай.
Может быть, в таких вот присказках, которые тетя Алиса называла «старыми как мир», и таилась поэзия, соседствуя с магией земледельческих ритуалов. А впрочем, может быть, поэзия как раз и родилась из этих колдовских заклинаний, с помощью которых в старину охотники, рыбаки и пастухи пытались постичь и подчинить себе реальную действительность; поэтому они и передавали эти присказки от поколения к поколению, зачарованные могуществом, скрытым в Слове. Алиса внимательно следила за небом, луной, звездами, за полетом птиц и поведением кур и кошек, незамедлительно расшифровывая и принимая к сведению все эти только ей одной понятные сигналы. Против вредных насекомых или болезней растений она изготовляла самые невероятные смеси, в состав которых входили, в зависимости от обстоятельств, печная зола, мыльная вода от стирки, сера, окурки, слюна или моча. Ничто у нее зря не пропадало! Все возвращалось на круги вселенского движения. Прибавьте сюда еще содействие луны и звезд, и вы поймете: Алисины грядки плодоносили обильнее прочих.
Эти колдовские приемы, разумеется, не ограничивались одним только садом. Вся Алисина жизнь была насыщена какими-то секретными знаками, заклинаниями, тайнами, и я никогда не мог постичь, отчего она так решительно порвала с церковью. В другом месте и в другое время из нее вышла бы в высшей степени набожная душа, возносящая господу любовь, которую она питала к нам; я хорошо представляю себе, как она жгла бы свечи и обвешивала себя образками, самозабвенно предаваясь культу своих святых покровителей, к коим взывала бы о помощи и чьи статуи смиренно украшала бы цветами. Однако вольный ветер начала века, влияние ее отца, брата и их товарищей по заводу, пусть и скупо, но говорящих о своей борьбе, увлекли ее в другую сторону, — ведь священники считались пособниками богачей. Правда, Алиса не вмешивает бога и святых в этот свой разлад с церковью. Разве что испытывает к ним некоторое недоверие из-за того, что они уступили свою церковь священникам. Она не подвергает сомнению их милосердие, но их могущество в ее глазах заметно бледнеет, и мало-помалу связь ее с ними, за неимением посредников, ослабевает. Оставшись в одиночестве, она наугад создает свою собственную религию, потаенную и путаную, со множеством разветвлений, и ее комната становится в некотором роде алтарем этого культа. Здесь она хранит в ящиках комода множество мелочей, которые ее страстная душа обращает в реликвии: фотографии, детские письма и рисунки, молочные зубы и пряди волос племянников, клевер-четырехлистник в коробочке из-под пилюль, камешки с пляжа на Севере. Здесь же припрятывались разные мелкие подарки, полученные ею от родных: шелковая косыночка, дорожный несессер с иголками и нитками, пульверизатор, — все эти вещи она и не думала пускать в ход, ведь это низвело бы их до уровня повседневности, кощунственно лишив таинственной сути. И в той же куче — дешевенькие четки, старый требник, несколько образков для первого причастия, с Девой, младенцем Иисусом и ангелами. Позднее она сюда же станет складывать мои книги с дарственными надписями, которые я привозил ей и которые, как я понимаю, она вряд ли читала, разве что романы, о них она коротко сказала мне: «Хорошо написано!», не вдаваясь ни в какие подробности. Да и к чему было распространяться, и так ясно: все, что делал я, могло быть только «хорошо». Ну а мои стихи? Она, должно быть, садилась у кухонного окна, протирала очки и, слегка наклонив голову, прочитывала несколько строф, а может, и несколько страниц, вряд ли понимая смысл написанного. Но она, конечно, и не подумала бы упрекнуть меня в этом, просто она утверждала, что это стихи для умных людей, для «образованных», которые учились в школе. Да, даже и в этом вопросе она мне полностью доверяла. Заглядевшись на сумерки за окном в саду, она задумывалась и опускала открытую книгу на колени. В сущности, с нее достаточно было того, что книга эта существовала, что вот можно погладить ее переплет, как когда-то в младенчестве моем она гладила мои руки и ноги. Это был ее собственный способ узнавать меня, а все остальное ее мало интересовало, и ей казалось вполне естественным, что стихи, которые другим людям так легко было постичь, для нее оставались темными.
И если никто в нашей семье не интересуется поэзией — даже Жаклина, даже моя мать, когда-то с такой любовью переписавшая в свою зеленую тетрадь столько стихов, — значит, произошло что-то серьезное: какой-то разрыв или сдвиг; я убежден, что большинство современных поэтов зашли в тупик, блуждают в темноте, разучились просто и искренне говорить с людьми. Этот «высокий штиль», эта торжественная претенциозность, эти непонятные, недобрые маски, скрывающие подлинный образ поэта, — как могут они тронуть и привлечь к себе сердца тех, кто в былые времена безыскусно внимал простой и прекрасной речи поэта?! Да, я хорошо знаю, что само наше время неумно и низменно, что оно нередко толкает публику к пошлости и глупости, но все это не снимает вины с нас, поэтов. А ведь я как будто не отношусь к худшей их разновидности! И все же те, кого я люблю и кто любит меня, уже не понимают моих стихов, и мы стоим с ними на разных берегах реки под названием «поэзия». Чем дальше, тем шире пропасть между нами, скоро нам совсем нечего будет друг другу сказать. Многие из пишущих давно перестали об этом заботиться, они не в силах освободиться из плена собственной гордыни или отчаялись в успехе, а меня вот уже несколько лет грызет глухая боль. Все мешает нам, особенно критики, яростно отрицающие ясность в поэзии. Одной только смутной невнятице милостиво открыт доступ к читателю, но что за ней скрывается, не пустая ли это оболочка? Нет, в глубинах слова еще жив источник, от которого все мы могли бы испить. Там, и только там, суждено нам однажды встретиться: поэту и читателю.