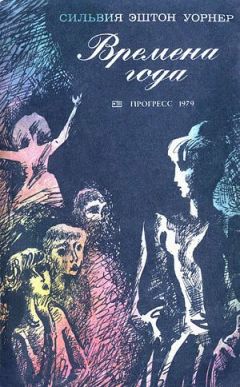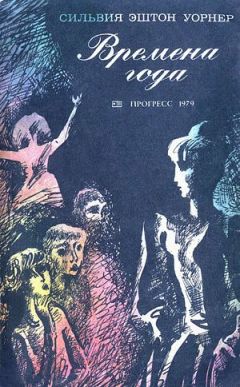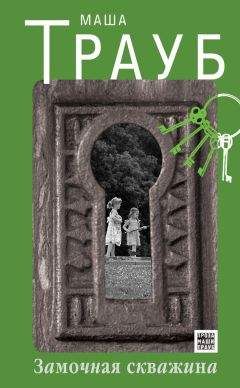Галина Таланова - Бег по краю
Как много средь дум упустили,
И поздно соломку таскать,
Коль в мае гнёзда мы не свили.
И ветер – как будто средь дюн,
Горяч и песком засыпает.
И нежно настойчивый вьюн
Крапиву в лугах оплетает.
К цветку потянувшись рукой,
Отдёрнешь ладонь от ожога.
Последний жар лета такой:
Крапивница, боль и тревога.
Лидочка ощущала себя обворожительной принцессой из сказки, что сквозь все пуховые перины обволакивающей беседы упрямо чувствовала пробивающуюся горошину изучающего взгляда. Взгляд этот тревожил и будоражил, не давал заснуть в тёплом семейном гнёздышке. Перины разговора перестилались одна за другой, но горошина, покатавшись по комнате, неизменно возвращалась на примагничивающее её место.
А за окном был май. В балконную дверь, недавно освобождённую от белых бумажных наклеек, насвистывая, заходил погостить майский воздух, пропитанный одурманивающим запахом черёмухи с ноткой вишнёвого цвета. Занавеска на двери надувалась тугим парусом, погнавшим яхту по завораживающе светящейся дорожке к кромке горизонта. Оранжевый шар абажура, похожий на гигантский экзотический плод, раскачивался от сквозняка, будто мартышка на лиане, отбрасывая на стены неровно дышащую тень. Было тревожно и легко одновременно, словно летишь на воздушном шаре: тебя весело тащит ветром в неизвестность, всё становится маленьким и почти невидимым; а тревожно оттого, что понимаешь: ветер может внезапно измениться и кинуть тебя на остроконечные пики деревьев, тянущие к тебе свои ветки, будто щупальца осьминога.
57
Фёдор теперь как-то для неё совсем незаметно обосновался в их доме: звонил по телефону, прося таким вкрадчивым голосом позвать Андрея, что Лидочке казалось, что кто-то на том конце провода всматривается в чёрную трубу телескопа, пытаясь разглядеть поближе звёзды, но видит в нём лишь своё кривое и блестящее отражение; протирал и без того весь в глубоких проплешинах диван; уплетал за обе щёки пельмени, которые Лидочка поджаривала, как пирожки, до золотистой хрустящей корочки, поливала томатной пастой и посыпала душистым укропом, напоминающим ей о праздном дачном лете; раскатисто, будто нетающее эхо в горах, смеялся со свекровью – и Лидочка вся медленно закипала, чувствуя, как нетерпение внутри неё рождается и поднимается маленькими весёлыми пузырьками, всё растущими, переполняющими допустимый объём, и готовыми забурлить.
Лидочка давно призналась себе, что она скучает без него – будто сумерки на жизнь опускаются, изымая из неё краски. Становишься больным, дальтоником, видящим только чёрных кошек, неторопливо переходящих тебе дорогу.
Фёдор приходил не к ней. Она была приложением к мужу, как бы его тенью. Она и старалась по возможности стать такой плоской расплывчатой тенью, прилипшей к стене или мебели, не подающей звонкого голоса, похожего на полнокровный весенний ручей, весело перебирающий клавиши городских водостоков. Иногда она даже уходила в их спальню и тихонько там сидела мышью в норке, представляя себя кошкой, выходящей на охоту. Потом не выдерживала – и шла в гостиную. Иногда её вытягивал из спальни Андрей. Чаще всего это происходило, когда муж хотел, чтобы она что-нибудь им сварганила съестное. У них были свои разговоры – и она оказывалась в них лишняя. Некий субтитр для слепых, которому позволено только повторять чужие речи. Сидела на краешке кресла, подпирая раскалённую щёку ладошкой, поставив руку на подлокотник. Её и не замечали будто. Или это ей лишь так казалось?
В один отпускной и щедрый на тепло июль муж пригласил Фёдора к ним на дачу. На рыбалку.
В то лето Фёдора стало неожиданно так много, что он будто стал членом их семьи. Сидели за огромным дачным столом, хрустели прожаренными до костей окуньками, что свекровь обваливала в манке и жарила на подсолнечном масле так, что рыба была покрыта вкуснячей золотистой поджаркой и есть её можно было целиком со всеми её хребтами, плавниками и зарумянившимся хвостом. Слушала рассказы свёкра о дачной жизни, что била здесь когда-то родниковым ключом ещё до того, как она появилась здесь… Внимала философским разговорам мужчин, думая о том, что лучшего себе, наверное, и желать нельзя, но сердце почему-то всё время тоскливо сжималось от мысли о том, что всё в её жизни пойдёт теперь по правильному, заранее известному накатанному многими маршруту… Нет уже того зелёного луга, похожего на футбольное поле, где шутя можно гонять мяч судьбы из стороны в сторону, смеясь и выбивая от другого игрока, что пинает и катит его ровнёхонько по прямой… Вот ей нравится Фёдор, но и она мужняя жена, и у него семья, и они никогда не станут половинкой друг друга. Даже ночью, лёжа между Андреем и стеной, по которой гуляли чёрные тени всклокоченных ветром деревьев, напоминая о том, что в нашей жизни нет ничего законченного и неподвижного, кроме конца, чувствовала всей своей обожжённой солнцем знойной кожей не шершавую холодную стену, несущую легкое облегчение от боли своим прикосновением, а того, другого, что прикасается к этой стене с другой стороны…
А днём Фёдор разгуливал с удочкой в руках по намывным волжским дюнам, где ноги проваливались по щиколотку в песок, издавая лёгкий скрип кварца, пристально смотрел на неё, улыбался и приговаривал: «Ловись рыбка большая и маленькая…» Вытаскивал из воды резким и ловким движением очередного хилого окунька, жадно хватающего жабрами, похожими на открытые раны, гибельный, сухой и горячий, словно поцелуй, воздух.
А она сидела на песке, смотрела на ленивые волны от пробегающих моторок и быстроходных судов, нежно пересыпала влажной от пота ладошкой сухой золотистый песочек, будто просеивала его сквозь пальцы, представляя, что это минуты в песочных часах – одна похожая на другую, но вместе они складываются в неповторимую картину жизни, но в сущности совершенно неизменную от того, что какие-то песчинки в них меняются местами или даже уходят под воду, утрамбовываясь под её тяжестью и втискиваясь между другими песчинками, такими же похожими одна на другую… Некоторые песчинки прилипали ненадолго к пальцам и ластились к золотистому телу, надолго запутывались в выгоревших волосах, набивались под купальник, чтобы оказаться потом в зелёных дебрях сада.
* * *
Всё было так похоже на игру,
А лучше бы её не начинали.
…Ветрище заметался по двору.
Осокори стволами скрежетали.
И все предметы потеряли тень.
Мир обесцветился.
Не шло на ум ни мысли…
И душно пахла спелая сирень,
Чьи ветви запылённые обвисли.
Но голос что-то сладко выводил,
Начав случайно с поднебесной ноты.
И, выпевая,
Из последних сил
Твердил про лето краткое – раз в сотый.
Сердец каприз…
Зачем же? Ну зачем
Скользят улыбки по следам намёков?
Желанье жизни взмыло надо всем,
Что правилом казалось из уроков:
Как ласточка беспечная,
Крылом
Зачиркала по потемневшей туче.
…Когда услышишь слишком близкий гром,
Не говори, что всё решает случай.
58
Осенью Лидия поняла, что беременна. Фёдор почти не появлялся у них, но иногда звонил и подолгу разговаривал с Андреем. Иногда она сама перебрасывалась с ним парой ничего незначащих фраз, что просачивались, как перо сквозь пожелтевший от времени сатин подушки… Мягко и уютно, но что-то царапает щёку своим острым коготком. И потом на щеке обнаруживаешь длинную свежую царапину. Она совсем перестала о нём думать. Ему больше не было места под солнцем в её будущей жизни. Живот становился похожим на огромный надувной мяч, за который она держалась на воде, учась плавать. Сейчас она тоже крепко и осторожно держала надувающийся мяч, покачивающийся на волнах её неустойчивой походки вразвалочку. Она думала, что этот мяч теперь ей придётся осторожно подталкивать на воде, не отпуская его от себя в страхе, что он уплывёт – и она, барахтаясь и разбрызгивая воду, будет хватать раскрывшимся для крика ртом воздух, прежде чем безвозвратно уйти с поверхности, отражающей полёт облаков.
В конце марта родилась Василиса. Лидочка всматривалась в этот красный орущий комочек, весь в «пятнах аиста» с пухом одуванчика на темечке, и не понимала, что она теперь мама. Вставала в полусне ночью, выдернутая из недолгого рыхлого забытья надсадным плачем, кормила дочь, как будто подобранного на улице котёнка из соски, чувствуя успокаивающее тепло родного тельца; качала, словно бескрайнее волнующееся море маленькую лодчонку, удивляясь тому, что это существо со сморщенной гримасой обиды и есть её ребёнок.