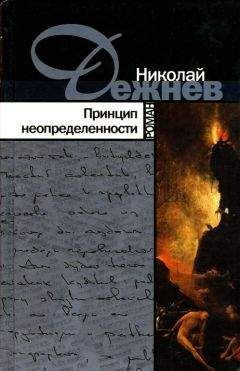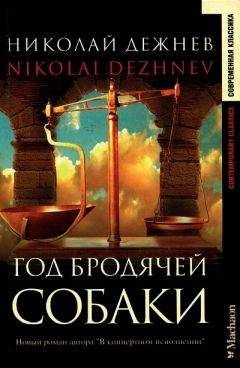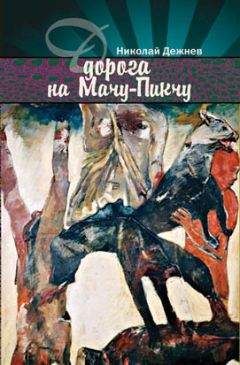Канатоходец. Записки городского сумасшедшего - Дежнев Николай Борисович
— С Хайдеггером знакомы?.. — продолжал с надеждой в голосе Василий Лукич.
Обижать старика не хотел, но не сдержался:
— Пил с ним намедни в буфете ипподрома пиво…
Извиняясь, улыбнулся. Кое-что о знаменитом немце, конечно, слышал и несколько раз его цитировал, но заумью постмодернизма не увлекался. Вот, значит, куда старика кинуло, и это вместо того, чтобы думать о вечном!
Лукич, надо отдать ему должное, на глупую мою выходку не обиделся. Если и остался ответом недоволен, то этого не показал. Покивал сухонькой, седой головой:
— У вас хорошее чувство юмора, правда, несколько необычное! Так вот, Хайдеггер… — Умолк, словно ждал, что еще что-нибудь отчубучу, но я молчал в тряпочку. Сделав глоточек чая, начал сначала: — Мне особенно импонирует его мысль о том, что мир есть текст. Вы можете себе такое представить?
И это он спрашивает меня, превратившего в текст свою жизнь? Меня, двадцать лет с упоением игравшего словами? Загнавшего себя этой игрой, как скаковую лошадь, до полусмерти? Да, Лукич, могу! Могу представить в образах, а хотите, в переводных картинках. Переводящих отпущенное мне время в коллекцию книжек на полке. Я все могу…
— Вот и славненько! — улыбнулся старик, прочтя в моих глазах ответ. Подумал, наверное, пусть сер и неотесан, зато хотя бы не хамит. — В таком случае вам должно быть понятно, если я скажу, что язык есть знаковая структура, являющаяся вместилищем значений, независимых от их связи с событиями обыденного мир.
— Да, — согласился я, — нам всем свойственно нести пургу, не имеющую ничего общего с тем, что происходит…
Слава Богу, он меня не слушал, продолжал:
— Смысл появляется в контексте отношений между словами, а вовсе не вследствие их соответствия действительности. Поэтому тексты не несут истину, а создают мир, в котором человеку приходится жить…
Мне ли, дорогой Василь Лукич, этого не знать! Тем только и занимаюсь, что обретаюсь в положенных на бумагу миражах. Прежде чем обмануть других, покупающих, желая обмануться, книгу, обманываю сам себя. В этом виде спорта со мной сложно тягаться. Язык, с его обилием жонглирующих словами смыслов, мой хлеб насущный, я заполняю текстами пустоту бытия. Иду над ней, как над бездонной пропастью, по натянутой до струнного звона нити сюжета. И что симптоматично, начертанные на могильном камне строки, не оставят меня в покое и в послесмертии.
Сидевший напротив старик двигал бескровными губами, из чего я сделал вывод, что все это время он продолжал говорить.
— Знакомясь с работами Даррида, — бубнил Лукич, позабыв, как я обошелся с Хайдеггером, — приходишь к выводу, что он во многом прав. Текст опосредует окружающую нас действительность, мы мыслим ее словами и связанными с ними образами. Это можно сравнить с театром теней, по их движениям мы судим о том, что происходит за занавесом на сцене…
О Господи, то же самое говорила Варя, только о картах Таро! Неужели нет ничего менее зыбкого, что мы хватаемся за тени, как за спасительную соломинку? Мало того что не знаем, откуда и куда идем, так еще и живем в неведении…
Как если бы слышал мои мысли, Василий Лукич ответил:
— Только и есть у нас что вера да любовь, а больше ничего нет! Мир, по мнению Бердяева, являет собой начатый Богом текст, дописывать который предстоит человеку. Он вошел в нашу жизнь, стал основой культуры и истории…
Поэтому, практикуясь в чистописании, мы ее так часто и переписываем, подумал я, но вслух ничего не сказал.
— Используя текст как инструмент, мы строим модель мира, — разошелся Лукич, посматривал на меня победителем, — и что важно: она, эта модель, работает! Посредством текста мы познаем мир…
Делая вид, что слушаю, я взял со стола книгу, полистал. Посмотрел на заднюю сторонку обложки, фотографии действительно не было. Нашел нужную страницу. Дождавшись паузы, как бы между прочим, заметил:
— И все-таки, Василий Лукич, есть во всем этом одна странность! Когда болит душа, мы берем гитару или подсаживаемся к инструменту, но никому и в голову не приходит перепечатать в свое удовольствие что-нибудь из любимого. Почему так? Вроде бы буквы и звуки возникают из-под руки, ан нет, даже когда речь идет о стихах…
Не большой любитель версификации, сочинил когда-то для героини «Игры в слова» четверостишье. Она прочла его, стоя у окна пустой и холодной петроградской квартиры, глядя на выгружавшуюся у парадного подъезда, приехавшую арестовывать ее пьяную солдатню. Шел ноябрь семнадцатого, по улицам города под красными флагами шарахались банды упивавшегося своим всевластием быдла.
— Вот послушайте, это имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорим!
Не глядя на раскрытую страницу, продекламировал:
Захлопнул книжку и отложил ее в сторону.
— Не хуже сказано, чем у вашего Хайдеггера, и уж точно доходчивее!
Василий Лукич смотрел на меня озадаченно. Покачал в венце легких, как пух, волос головой.
— Ваша правда, лишь эхо слов от нас и остается…
Только тут я понял, какую совершил нетактичность. Эгоист, на все смотрю со своей колокольни. Не подумал, а ведь увлечение его и возраст ложатся лыком в строку.
Старик растерянно хлопал глазами.
— Хотите варенья?
Розетка передо мной была полна, но для возвращения в разговор ему нужно было что-то сказать. Достал из кармана домашней куртки папиросы и предложил мне, но я отказался. Желтыми от табака пальцами замял в двух местах бумажный мундштук и прикурил от поднесенной мною спички. Щурясь от дыма, спросил:
— В Бога верите?
— Скорее, верю Богу, а это нечто иное! Верю, что Он милостив и справедлив…
Сказал и тут же поймал себя на том, что реплика принадлежит герою моего последнего романа. Усмехнулся, вот тебе и текст, о котором хозяин дома так печется, лезет из меня, словно фарш из мясорубки.
Лукич понял мою усмешку по-своему.
— Не просто, молодой человек, у нас с вами получается, совсем не просто!
Поиграл в задумчивости ложечкой с вензелем и, извинившись, вышел в туалет. Я смотрел ему вслед с чувством, близким к раскаянию. Мог бы перетерпеть, ублажить севшего на любимого конька старика. Поддавшись порыву, придвинул к себе книжку и подписал ее, подбирая самые теплые и искренние слова. Оставил на столе раскрытой, положив сверху его очки, и прокрался на цыпочках к входной двери. Выскользнув на лестничную площадку, заскакал вниз через ступеньку.
Прежде чем сесть в машину, обернулся. Василий Лукич стоял на балконе. Я помахал ему рукой.
9
Все люди смертны, но если срок неизвестен, то вроде бы и нет его, по-человечески это очень понятно. Совсем другое дело, когда знаешь, что зажиться на белом свете не удастся. Вести обратный отсчет от даты ухода становится с течением времени все болезненнее. Если верить Лукичу — а жизнь моя его взглядам подтверждение — и относиться к миру, как к тексту, то прочесть мне оставалось каких-то пару глав, а то и абзацев. Да и как старику не верить, когда имеется прямое доказательство отсутствия границы между текстом и реальностью. Человек, хотелось бы верить, нормальный, я не возлагал вину за случившееся на себя, но факт остается фактом.
Бабушка говорила, что на белом свете есть три злыдня: осенняя муха, девка-вековуха и николаевский солдат, четвертым я бы причислил к ним свою фантазию. Давно это было, работал над четвертым романом, когда в момент усталости ко мне привязалась одна фраза. Ничего вроде бы особенного, только больно уж она подходила моему тогдашнему герою: «Шофер, покидая этот мир, нажми на тормоз!» Органично ложась в текст, слова эти меня странным образом тревожили, за ними маячило что-то темное, не человеческое. В предчувствия я тогда не верил, вертел их и так и сяк, пока не решил выкинуть из романа к чертовой матери. Вычеркнул, вымарал, стер в компьютере… на следующее утро позвонила жена ставшего мне другом моего издателя, сказала просто: Володи больше нет. Умер за рулем. Успел нажать на тормоз, с собой никого не захватил. Молодой парень, эрудит, блестящий знаток литературы. На похоронах ко мне подошла его сестра, сказала, что он в меня очень верил и любил…