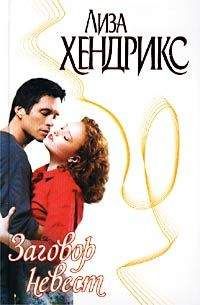Джим Гаррисон - Волк: Ложные воспоминания
У Бэттери-парка я зашел в бар, заказал сэндвич с пастрами и пять двойных бурбонов. После ночи холода и неудобства здоровье снова расползалось по кровеносной системе. Посетители — всего несколько стариков неопределенного вида, что-то про себя бормочущих, — в Нью-Йорке самая высокая в мире концентрация бормоталыциков на акр. Отпахав на этот город до шестидесяти пяти лет, получай часы «Булова» и начинай бормотать. Рубашки из-за этого все в слюнях. Бармен с интересом смотрел шоу Джека Паара,[98] где звезды со страстью предавались голливудскому кривлянию. Жуть как остроумно. А неплохо бы заявиться туда в один прекрасный день, снять комнату, побродить по округе и предложить Эстер Уильямс[99] поплавать наперегонки: три мили по Тихому океану, на кону — судьба этого мира. Мозг отравлен тысячей фильмов. Джеймс Дин, о Джеймс Дин, где ты? Шесть футов под крышкой Индианы. Я не похож на Роберта Митчума из «Дороги грома».[100] Телевизор у нас дома появился, только когда мне исполнилось восемнадцать лет и я вот-вот должен был уехать. До сих пор его не люблю: слишком маленький экран — войдешь в студию, а люди там окажутся такого же размера. Я попросил стакан воды и закатил три колеса. Пошли, ребята. На улицу, потом в сабвей, шебуршание начинается.
Я вышел из поезда на Шеридан-сквер и зашагал по Гроув посмотреть на дом, в котором жил год назад. На глаза навернулись слезы глупости. Как на футбольном матче во время гимна. Поглазел на Бэрримор-хауз, развернулся, зашагал обратно к площади, зашел к Райкеру и заказал кофе. Рядом со мной гомик с наклеенными ресницами попросил сахар. Мырг мырг. Я питал к нему самые теплые чувства — какое нам дело, с кем они ебутся и почему. Все эти законодательные органы с Любовным Регламентом Роберта.[101] Хорошая власть — это когда в конгрессе пропорционально больше трансвестистов и гомиков с раздолбанными жопами, чем в Ларедо, штат Техас, Спрингфилде, штат Массачусетс, или на Малибу-бич. Секретный доклад, маркированный «Китаем» в каталоге Американской академии искусств и литературы, — коллективный разум этой организации способен отполировать вазу эпохи Мин с пузырьками. Разумеется, поодиночке каждый ее член — альфа, но во время выборов ромашки сплетаются в венок и, крутя носами, выбирают самых недостойных. Допил кофе. Три колеса — это на два больше, чем надо. Если иду со скоростью света, это мое дело. Я брел в общем направлении Салливан-стрит, где она жила в своем любимом убожестве, которого и была достойна. Если ее нет дома, я вылижу на двери свое имя, и она ничего не узнает, разве что вернется до того, как высохнет слюна. По Западной Четвертой во всей ее красе, призванной обнаружить тебя настоящего. Любители оперы жрут маникотти и ни с того ни с сего заводят арии с полным ртом маринары. Музыка исходит из дыр, истекающих кровью. Если бы меня забрали в армию, я таскал бы с собой кетчуп и прикидывался мертвым, пока меня не отпустили бы домой. У почтового ящика на Шестой авеню девушка, ее привела сюда элегантная афганская борзая. Такая красивая, с длинными ногами, высоким задом и бедрами. Пожалуйста, будь моей, пусть нас кто-нибудь познакомит, прямо сейчас. Она уходит прочь, и ее шары трутся друг о друга там, где мог быть мой нос или шланг. Как бы скинуть с себя эту химию и вернуться на землю. Хочу домой, заколачивать гвозди в брусья, кидать на заднее сиденье корзинку для ланча, и пусть мама спрашивает: как сегодня? Плохо, очень плохо. Два раза попал по большому пальцу, и очень сильно. В первый день на ирригации обломал под корень три ногтя. Орал на все сухое поле, по которому разбрызгивалась вода, растворяясь в моей крови. Наконец через Вашингтон-сквер к ее улице. Люди в темноте играют в шахматы, дюжина жеребцов вдоль «мясного ряда». Отзываться на йодль за мзду. Я купил пакетик фисташек и сел на скамейку собраться с остатками мыслей. Когда разбогатею, найму себе Пулитцеровского лауреата, пусть лущит мне фисташки. В остальное время будет кудахтать в курятнике. Яйца трогать запрещу.
Вверх по лестнице. Время «Ч», а в горле ни одного разумного слова. Может, дзен: «Я здесь, потому что я здесь, потому что я здесь». И тут из чулана появляется мастер и укладывает меня на пол чем-то, по звуку напоминающим хлопок одной ладонью. Хлоп. Пахнет обычным капустным супом. Хлоп. Рыбой и «римским очистителем». Дверь открывает толстуха с заплывшими глазками.
— Ты меня разбудил.
— Клево. Лори дома?
— Ты кто?
— Свансон.
— У нее смена до полчетвертого.
Она собралась закрыть дверь.
— Погоди минутку.
Я протискиваюсь мимо нее в узкий коридор, затем в культурненькую гостиную. У дальней стены стоит диван, я сажусь, потом ложусь.
Толстуха пожимает под халатом плечами и плетется в другую комнату. Я пытаюсь закрыть глаза, но в них песок. По полу разбросаны книги, пластинки и журналы, на стене театральные программки. И картина Мозеса Сойера[102] — девушка с ляжками, косыми в том месте, где начинается красное платье. Репродукция Ларри Риверса.[103] На угловом столике подделка под Хаима Гросса.[104] Лори — кассирша в большой ист-сайдской кулинарии, которую облюбовали богатенькие из «Темпл-Эммануэль».[105] Мы познавались, когда я только приехал на восток и собирался в Вашингтон, имея при себе рекомендательное письмо от выдающегося бизнесмена к конгрессмену. В Филадельфии я свернул на боковую дорожку, заложил часы «Уиттнауэр», подаренные мне в честь окончания школы, и заявился в Нью-Йорк. В комнате темнеет, мои нервы чуть-чуть расслабляются, тело размякает на диване. Толстуха в соседней комнате заводит пластинку, сладкое басовитое латино, у меня перед глазами мексиканцы, и я опять в Сан-Хосе, прикрытый пальмовыми листьями. Стою посреди раскаленной асфальтовой стоянки на автовокзале. Пальмы с голыми стволами, похожими на слоновью шкуру, и ананасы. Ем paгy из потрохов, менудо, я люблю менудо с зернами мамалыги и красным перцем.
Меня будит Лори. Я спал совсем недолго, но от узкого дивана болит затылок. Она в три раза тоньше, и веснушки не так заметны. Пахнет языком и пастрами.
— Что ты здесь делаешь?
Она говорит мягко, голос у нее всегда был детский, голос детского крема.
— Я отдыхал.
Я беру ее за руку и тяну к себе, чтобы она села рядом на диван.
— Ты женился? — спрашивает она.
— Я приехал стопом. Тащился четыре дня.
— Подожди, я переоденусь.
Она подходит к рахитичному гардеробу, достает джинсы и свитер. Я чувствую, что засыпаю опять, но тут ее белая форменная одежда падает на пол. Она наклоняется и поднимает ее. О боже.
— Может, подойдешь на минутку?
Она поворачивается, улыбается, подходит ко мне в одних трусиках и лифчике. Какой красивый живот. Она ложится рядом, и мы целуемся, и не перестаем целоваться, пока я расстегиваю ремень, стаскиваю с себя брюки, а с нее трусы, снимаю ее лифчик, сбрасываю свою рубашку, мои руки у нее на груди. Затем она садится, вталкивает внутрь, опять улыбается, потом наклоняется, и мы целуемся, пока не кончаем. Я переполнен любовью. Никогда не чувствовал отчуждения после того, как мы были вместе, потому что любил ее. Мы вяло поговорили о том, что же раньше было не так. Я. Я ненавидел Нью-Йорк и однажды ее ударил. Я познакомился с ее родителями, которые терпеть меня не могли и отказывались разговаривать — я не еврей. Я поцеловал ее в шею, она сползла вниз по моему животу и подняла губами во второй раз. Я отпихнул ногой ботинки и штаны и вошел опять, двигаясь медленно, ее пятки были у меня на спине, и мы опять целовались. Потом я уснул.
Я сидел на берегу и курил воображаемую сигарету. Было градусов семьдесят семь, я встал, сбросил одежду, встал на цыпочки и сплясал на песке небольшой круговой танец. Пам-пам-пам-пам, мне тридцать два года, я индеец, сама природа смотрит на мою бешеную голую жопу, и ей по фигу. Ветер довольно сильный, хватает, чтобы разогнать мошек. Непроизвольно дрожа, я шагнул в холодную воду. Как ходить до ветру в холодный день. Не просто индеец, а шайен, потому что у них имелась для жизни отличнейшая страна Монтана за несколько тысяч лет до того, как стала Монтаной. Я испустил долгий шайенский клич, нырнул и поплыл под водой, уставясь открытыми глазами в мутное дно. Затем вынырнул и оглянулся на берег: неплохо. В двенадцать лет мы тайком от родителей — иначе бы они запретили — дважды проплывали вдоль берегов озера, это занимало девять часов. Он сказал ей: «Плыви на спине». Плохая, однако, затея засовывать хлопушку лягухе в рот. Где лягуха? Везде, только мелкими кусочками.
Я лениво плыл к середине озера, вглядываясь в черное невидимое дно и мечтая найти там морское чудовище, с которым можно сразиться. По пути к берегу левую икру свело судорогой, и нога вяло тащилась следом. Растянувшись на песке и положив голову на одежду, я стал массировать мышцу, пока судорога не прошла. Питер слегка обгорит. Я приподнялся, упираясь в песок головой и пятками. Где же моя скво, я хочу ей засадить. Покахонтас, как же она роскошно кувыркается. Тема для полемики: кого выебли сильнее — черных, привезенных сюда в рабство, или индейцев, у которых отобрали землю. Сэнд-крик. Харперс-Ферри. Все равно что спрашивать, кто на войне самый убитый. Если кто пройдет мимо, скажите, что я лежу здесь, и рот моего черепа раззявлен в вечном проклятии. Все сбывается без всякой романтики. Почему бы им не стать хорошими мальчиками и девочками? Одеяла, зараженные оспой, грабежи, походы, резня, жадность и сотни миллионов шкур, отправленных на Восток. Высадив меня, пайюты повернули налево на грунтовку, что тянется тридцать миль по пустыне, и покатили к поселку, где от правительственных щедрот им позволено жить в сборных бараках из гофрированного железа. В которых летом дышать нечем, а зимой зуб на зуб не попадает. Мы передавали друг другу бутылку и смеялись над песней, которую пела по радио Леди Шампанское.[106] Засранная машина, горячий запах выхлопа и волосы цвета воронова крыла. Набрав пригоршню песка, я написал на животе свое имя. Низко летящий самолет прочтет и насторожится. Темный принц-сиротка опять на воле. Запирайте баб и детей. Скликайте ополчение. Подобно Кливеру,[107] его следует считать вооруженным и особо опасным. Я поворочался на песке, затем, как бревно, скатился к воде, напиться. Как вкусно. Напитанное ключами озеро. Сюда бы папашу с удочкой и приманкой — посмотреть, нет ли тут форели. Сейчас как выйдет из лесу в том же самом охотничьем костюме, который был на нем в то ноябрьское утро. А сестра в глубине леса пусть собирает цветы, и грибы тоже, чтобы есть их потом с форелью. Семь лет назад. Я никому не скажу, что они живы. Или что они умеют ходить по воде и по верхушкам деревьев длинными летящими шагами. Или, как поет Долли Партон — моя любимая артистка с тех пор, как Пэтси Клайн разбилась на самолете вместе с Ковбоем Копасом:[108] забери меня отсюда, отец, я не голову разбил себе, а сердце. Все дело в том, что она сошла с ума от любви и сейчас в психушке. Мольн[109] так и не нашел эту девушку, а когда Хитклиф выкопал Кэти,[110] это была всего лишь холодная некромантия. Я до сих пор дрожу при воспоминании о той сцене или о другой, где мастиф кусает ее изящную ножку. Я подгреб к камышовой полянке и стал разглядывать под водой стебли и корни.