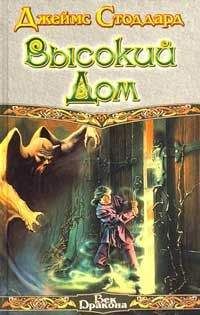Владимир Шаров - «Мне ли не пожалеть…»
Начинал он с того, что, зажегши свечу, не ставят ее иод сосуд, но на подсвечнике — и светит всем в дому, и он знает, что его народу никогда не скрыться, никогда не уйти от гонений. Он пел это мягко и ласково, любя их и прощая, и у них же, у хора, прося прощения. В отличие от дальнейшего, эта часть, кстати, многим нравилась и охотно хористами пелась.
Выдвижению еврея в первую очередь способствовал Лептагов, сделав его в середине двадцатых годов как бы своим заместителем. Причина была в следующем. Еще когда Лептагов работал над «Титаномахией», он во время одной из репетиций по неумелости на месяц сорвал два скопческих голоса, два лучших дискантных голоса хора, из за чего работа в самый ответственный момент встала. Урок этот не прошел даром, и с тех пор он всякую репетицию начинал с длинных и утомительных упражнений для разработки голоса.
Упражнения были его собственные, причем совершенно нетрадиционные. Полчаса спокойного, ровного пения, когда связки как бы разогревались, сменялись занятиями, построенными целиком на предельных звуках: криках, хрипах, стонах, реве. Довольно долго он вел эти занятия сам, а потом ему надоело, и он поставил вместо себя еврея. Когда тот попал в хор, никто не помнил. Кажется, Лептагову на одной из репетиций не хватило специфического оттенка баритона, тут он и случился как раз с таким голосом, что требовался. Он жил в Петербурге без вида на жительство, скитался, ночевал Бог знает где, голодал. В довершение бед на севере у него открылся туберкулезный процесс, он часто простужался, срывал репетиции, хотя человек был старательный и к Лептагову всегда тянулся. Он вообще был очень привязчивый.
Вслед за переездом Лептагова в Кимры он тоже перебрался туда, и надо сказать, Лептагова это тронуло. С голосом в средней полосе у него постепенно наладилось, он подкормился, каверны зарубцевались, так что легкие его окрепли, да и сам он окреп, приобретя вполне благообразный вид. Без сомнения, он был куда более привязан лично к Лептагову, чем другие хористы, оратория же интересовала его мало, для него участие в спевках было лишь способом найти хоть какое-нибудь пристанище, возможно, просто выжить. Позже, когда Лептагов уже посещал эти занятия один или два раза в месяц, не чаще, потому что шли они по-прежнему хорошо, одно немного его удивляло: он видел, что в глазах хористов этот еврей неестественным образом вырос, впрочем, не следует думать, что Лептагов всерьез ревновал.
Лишь потом, очень и очень нескоро, когда в Кимрах все уже утвердилось и устоялось, Лептагов вдруг понял, что внутри того, что пел хор и из чего он ставил свои церкви, этот еврей давно уже строит собственный храм, и работа зашла весьма далеко. Он и тогда не стал ему мешать, даже не показал, что видит это. Но когда то, что возводил еврей, сделалось открыто и для хора, Лептагова это обрадовало, и в конфликте, который следом разгорелся, он, хотя и не явно, поддержал хор.
У всех испросив прощения и всех простив, еврей в своей партии пел дальше, что после Хасмонеев — двух столетий славы и гордыни избранного народа Божьего — Господь хотел от евреев медленности страданий и терпения; чаша, которую Он им предназначил, была определена, и возглашал словами Христа из Нагорной проповеди: Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. Он пел, как долго евреи не могли поверить в это, как долго не могли смириться, но каждый раз, когда они поднимались — так было и при Бар-Кохбе, и при Шабтаи Цви, и при многих других, — все кончалось немыслимой кровью, смертью и запустением, а главное, чаще и чаще вожди их, те, за кем они вставали всем племенем, словно разочаровавшись в Боге, в Боге, у которого с ними был завет, уходили из еврейства. Вожди переставали быть евреями, потому что Господь ждал от своего народа другого.
Он пел, что как земледелец сеет зерно, рассчитывая собрать больше, нежели посеял, так и Господь рассеял евреев по миру, надеясь на обильную жатву. Пел, что когда на евреев обрушивались неслыханные бедствия, когда их тысячами убивали, а остаток, обобрав до нитки, изгоняли, они верили, что это родовые муки; как у женщины рвутся связки и она испытывает неслыханную боль, нередко и умирает, разрешаясь от бремени, так и без этих их страданий никогда не сможет родиться Мессия, Мессия, который спасет мир.
Пел, что некогда Господь остановил руку Авраама, не дал ему принести в жертву единственного сына Исаака; теперь перед бедствиями, которые ожидали евреев, дабы не усомнились они, как тот же Иов, не сказали бы в сердце своем, что Господь оставил их, забыл про Завет с ними, Господь в свой черед отдал на заклание Иисуса Христа — Сына Божьего.
Партия еврея шла в хоре сразу после того, что пели скопцы и хлысты, и, конечно, на него не могли не действовать их слова про Бога праотцев, про Иерусалимскую горницу и Святую землю, про то, что они — корень Израилев, а главное, их вера в то, что это так и есть. В ответ им он пел:
Отца и мать моих отняли вы от меня
Бога, который заключил со мной Завет, отняли
Землю мою, даже имя мое отняли вы.
Назвались мной и меня же погнали.
Как кукушка в гнездо чужое снесла яйцо, а тех кто там был не пожалела
вытолкала на холод так и вы изгнали нас из дома нашего.
И дальше другой псалом:
Землю свою именем моей земли назвали Города свои горы и реки
Именем моих гор и рек назвали
Все отняли у меня,
Даже памяти моей о днях жизни моей Мне не оставили.
Назвались братьями моими, сыновьями отца моего Чтобы меня и убить как Каин Авеля.
Конец его партии составляли стихи, взятые по большей части из Нагорной проповеди. Стихи, бывшие пророчеством о том, что ждало его братьев по крови. Он пел, почти восторженно возглашал, а хор ему вторил.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся,
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю,
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас,
Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою. Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.
Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую.
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
Ни скопцы, ни даже эсеры, конечно, не готовы были принять такое его понимание слов Христа — впрочем, инициатором конфликта были не они, а Дева Мария — особенно же их возмущало, что в соответствии с правилами, установленными Лептаговым, они обязаны поддерживать своими голосами то, что пел этот еврей. Как бы соглашаться с ним.
Недовольство зрело а них долго, но они терпели, боялись, что все это может дойти до Лептагова и весьма ему не понравиться. В конце концов они решились переговорить с евреем и послали одного из своих сказать ему. Посланному он ответил тоже словами Христа: «И некто сказал ему: вот матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: Кто матеръ Моя и кто братья Мои?» — однако на другой день пришел.
Они начали спокойно, доказывая ему, что он недаром не поет всю Нагорную проповедь, а пропускает стих за стихом, иначе каждому было бы понятно, что Христос обращался на горе не к единоплеменникам своим, а к единоверцам, тем, кто за ним пошел, оставив и дом и родных, но потом распалились, и перебивая один другого, стали кричать, что он из народа, на котором кровь Спасителя, и чтобы он вообще не смел петь ничего из Евангелий. Еврей тогда промолчал, они была уверены, что он внял их словам, но на следующей спевке он прибавил к партии еще один стих, пропев своим густым баритоном:
«Не давайте святыни псам я не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и обратившись не растерзали вас». И это они тоже были вынуждены пропеть вслед за ним. Впрочем, на следующей репетиции они, хотя и не сразу, и не дружно, ответили ему другими словами Христа: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы». После этого он уже никогда тот стих не пел.
В двадцать втором году Краус, хотя перед ним открывались самые блистательные перспективы, резко отошел от политики, правильнее сказать, просто порвал с ней и, приняв сан под именем отца Иринарха, получил приход в деревне Константиново Кимрского уезда. Собственно, храм, посвященный Благовещенью Девы Марии, стоял на отшибе, в полуверсте от старинного торгового села, настоящей слободы, где испокон века выделывалась всяческая пушнина. Дома здесь были сплошь кирпичные, двухэтажные, в нижнем за толстой железной дверью — склады, лабазы, лавки, мастерские; вверху — квадратные, на четыре окна, жилые комнаты. Село особенно процветало в конце XVIII века при Екатерине, когда на холме за выгоном и выстроили этот храм, массивный, неуютный и холодный. Сам отец Иринарх любил церкви, какие на Севере ставили в один день, а в этом единственное, что принимал, — три растущие на карнизе березки. Храм был в модном в то царствование классическом стиле, с колоннами, с выложенной гранитом папертью и таким огромным центральным приделом, что всегда, даже на Пасху, гляделся пустым.