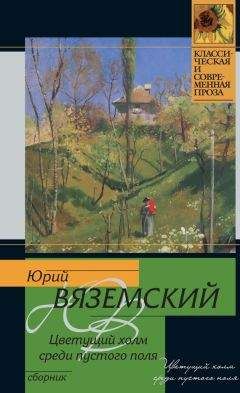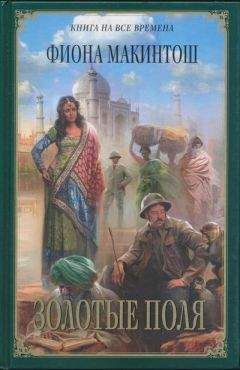Юрий Герт - Ночь предопределений
— Ничего не понимаю,— со вздохом произнес Карцев, чокаясь со Спиридоновым.
— И я,— призналась Айгуль, хотя лицо ее по-прежнему сияло.
— И я... И я ничего не понимаю!— слегка покачиваясь и улыбаясь сказал Спиридонов.— Ну и что? Может, это и хорошо, может, это так и надо,— чтобы никто ничего не понимал?.. За знакомство!— он чокнулся с Айгуль.
Кофе, наверное, был слишком крепким, Феликс чувствовал, как сердце у него в груди не колотится, а бьет — сильными, тяжелыми ударами.
— Верно,— сказал он, затягиваясь сигаретой,— нельзя ли поясней...
— Ясней?.. Да тут же все ясно.— Гронский оттянул ворот рубашки на груди, впуская свежий воздух внутрь, к разгоряченному телу.— Тут дело во внушении.
— И только?..
— Конечно.
Гронский выбрал на тарелке яблоко порумяней, без червоточин, и с хрустом надкусил.
— Но ведь вы сказали, что платки у всех на виду были сожжены,— возразила Айгуль.
— И что их чудесным образом обнаруживали на статуе Свободы, которая насколько мне известно, имеет в высоту, считая пьедестал, девяносто шесть метров,— усмехнулся Карцев.
— И потом — ведь там были — не один, не два человека, там подавали не автобус — автобусы!— подхватил Феликс.— Если это внушение, то затем все равно фокус должен был раскрыться...
Гронский молчал,— казалось, с явным наслаждением. Яблоко сочно похрустывало на его белых вставных зубах. Он тщательно пережевывал мякоть, прежде чем проглотить, и поглядывал на свою ассистентку, она улыбалась в ответ — с несколько загадочным, как бы лишь им двоим понятным оттенком.
— И все-таки — внушение,— повторил Гронский.— Я это утверждаю. Когда йог на полторы или две минуты останавливает свое сердце, когда гипнотизер погружает пациента в каталептический сон, когда у Терезы Нейман выступают на лбу кровавые стигматы — это в принципе то же внушение. Оно требует большого профессионального умения и тренировки...
— Но Гудини воздействовал сразу на целую толпу!— сказал Феликс.— Тут есть разница...
— Конечно,— кивнул Гронский.— Поэтому снова позволю себе напомнить: я называю его — великий Гудини...
— Выходит, все зависит от размеров зала, так сказать?.. От количества публики, которое этот зал вмещает?...
— В конечном счете — да,— Гронский отхлебнул из чашечки,— От количества публики, от личного обаяния, техники внушения, опыта... Тут многое...
— То есть,— продолжал Феликс,— если зал увеличить до размера какой-нибудь страны, то такой вот Гудини...
— Это не совсем то, что я имел в виду...
— Отчего же? Я просто развиваю вашу мысль!.. Тогда какой-нибудь Гарри Гудини... Или, скажем, родись Гудини в 1768 году на Корсике, он бы, благодаря своим способностям,— да не благодаря, а именно в полном соответствии с ними, с умением внушать целой толпе,— он бы сделался Наполеоном, тем более, что оба итальянцы... Или наоборот: Наполеон Бонапарт, родившись через сто с чем-то лет, опять-таки в полном соответствии со своими способностями, стал бы Гарри Гудини и выступал в роли замечательного, даже великого иллюзиониста? И однажды, возможно, на склоне лет, приехал бы сюда, в этот городок, со своими афишами, в которых «Наполеон Бонапарт» было бы набрано с красной строки? А?.. Ведь могло так быть?..
— Может быть, и могло,— сказал Гронский, смеясь и с каким-то настороженным недоумением разглядывая Феликса. Впрочем, так на него смотрели и остальные, не исключая Айгуль.— Может быть, и могло... Хотя я об этом не говорил...
— Безусловно, и однако уж это само собой вытекает!.. Я, впрочем, только для примера выбрал Наполеона и Францию!
— И все-таки,— Айгуль пыталась вернуть разговор в более спокойное русло,— и все-таки, как удавалось Гудини внушить, что платки сгорели... Или что они лежат в ящике на статуе Свободы? Не могло же не быть — ни ящика, ни платков? Совсем ничего?.. Кто бы тогда поверил?..
— Еще бы!..— Феликс до боли в костяшках пальцев стиснул в руке граненый стакан.— Кто бы поверил... А отчего миллионы верили — в прекрасную Францию, великую Францию — и ложились в могилы?.. Отчего миллионы поверили, что голубоглазые и белокурые по причине своей голубоглазости и белокурости должны владеть миром,— поверили так, что во имя этой веры стали убивать и умирать?..
— Не надо схематизировать,— заговорил молчаливый до того Карцев.— Были для этого и экономические, и политические факторы, и масса конкретных исторических обстоятельств. А вырывать, абсолютизировать чистую психологию...— Он поморщился.
— Не надо повторять банальностей!— оборвал Феликс, его разозлил резонерский тон Карцева.
— Что делать, истина чаще всего банальна...
Они заспорили.
Айгуль повторила вопрос:
— Наверное, я неточно выразилась... Но как... Да, вот именно — как можно подействовать на столько человек, внушить им... Ведь там были разные люди, одни более впечатлительные, другие менее...
— Ваш вопрос,— подскочил Спиридонов,— я бы сформулировал так... Разрешите?..
— Пожалуйста,— Айгуль, улыбаясь, пожала плечами.
— Всё ли и всем ли можно внушить?— врастяжку проговорил Спиридонов, вскинув свой длинный костистый палец и чуть ли не упираясь им в потолок.— Вот! Я правильно уловил вашу мысль?
— Абсолютно!— Она поблагодарила Спиридонова взглядом и повернулась к Гронскому. И все за нею повернулись к нему, даже Рита, не проявлявшая, казалось, до того никакого интереса к разговору. Она села рядом с Феликсом, на прогнувшуюся под ним и Карцевым койку, и склонилась, уткнув локоток в колено, так, что в вырезе платья приоткрылась ее высокая, с узкой и глубокой ложбинкой, грудь.
— Ну, что же, это не такой уж неожиданный вопрос,— сказал Гронский.— Обычно его и задают, правда, по-другому, например — кто лучше поддается внушению на сеансах гипноза — блондины или брюнеты, кареглазые или черноглазые... Но я попытаюсь ответить.
Он помешал в чашке с остатками кофе.
— Так вот, вы спросили: все ли и всем ли можно внушить? Все ли и всем ли?— Он поправил свои очки в массивной оправе и значительно посмотрел — вначале на Спиридонова, потом на Айгуль — долгим, пристальным взглядом. Она вздрогнула и поежилась.
— Так вот,— заговорил он медленно, продолжая смотреть на нее с таким упорством, что Феликсу представилось — начинается гипнотический сеанс.— Так вот, я отвечаю...
Но в это время в наступившей тишине прозвучали, нарастая, чьи-то шаги. Половица скрипнула, раздался стук в дверь.
В сюжетном смысле сработано точно,— отметил Феликс.— Правда, слишком уж избитый прием... В литературе, не в жизни.
18
Сразу по приезде Пинетти привлек к себе внимание. На Невском проспекте он подошел к торговцу, продававшему с лотка пирожки. Купил пирожок, разломил и нашел внутри золотую монету. Продавец остолбенел и, когда Пинетти повторил тот же трюк с еще несколькими пирожками, отказался торговать дальше. Вокруг собралась толпа. Охваченный жадностью, продавец переломал все свои пирожки, не найдя в них ни одной монеты. Пинетти щедро вознаградил продавца...
Царь сам хотел видеть то, о чем ему рассказывали придворные, побывавшие на представлениях Пинетти за границей. Иллюзионист был вызван во дворец к семи часам вечера, а явился с опозданием на час. В ответ на высказанное недовольство Пинетти предложил посмотреть на часы — у всех присутствующих часы показывали ровно семь.
После выступления, во время которого Пинетти заявил, что может проходить сквозь запертые двери, ему было предложено явиться за гонораром на следующий день к царю. К назначенному часу все ворота царского дворца были заперты, и все ключи лежали на столе в кабинете Павла I.
В 11 часов 55 минут сквозь дворцовую решетку была просунута депеша начальника департамента полиции: «Пинетти не выходил из дома». А через пять минут он, уже входил в кабинет к царю.
— Вы опасный человек,— сказал ему царь.
— Только чтобы развлечь ваше величество.
— Не собираетесь ли вы покинуть Санкт-Петербург?
— Да, если только ваше величество не пожелает продлить мои выступления.
— Нет.
— В таком случае я уеду через неделю.
Пинетти предупредил царя накануне отъезда о том, что завтра в полдень он уедет одновременно через все пятнадцать городских застав. Слух об этом разнесся по городу, и в назначенное время повсюду столпились любопытные. В докладе, представленном царю, полиция сообщала, что паспорт Пинетти был зарегистрирован на всех пятнадцати заставах.
(А. А. Вадимов, М. А. Тривас. «От магов древности до иллюзионистов наших дней».)
19
Итак, раздались шаги, затем стук, и в двери, слегка приотворившейся, показалась голова бомбиста, то есть Сергея Гордиенко. Он скользнул взглядом голубых прищуренных глаз по столу с огрызками яблок в грязных тарелках, с гранеными стаканами в потеках портвейна, потом — по красным, как бы распаренным — впрочем, и в самом деле распаренным — лицам, и с несколько брезгливой четкостью выговорил: