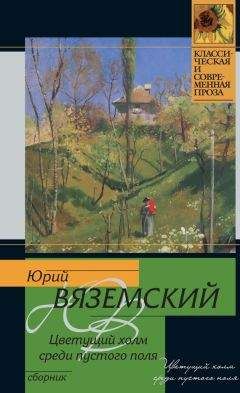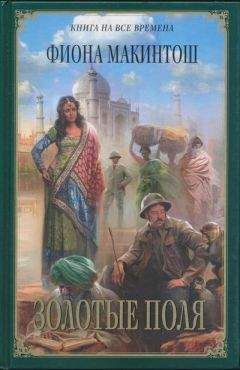Юрий Герт - Ночь предопределений
— За вашу Беловодию! С этой минуты я в нее верю!..— Он был порядком на взводе.
— Сейчас я переоденусь,— сказала Рита, сияя,— и мы чудненько устроимся! Чудесненько!.. Правда, мальчики? Теперь у нас все есть...
— Все, что нужно для счастья!— возгласил Спиридонов.— А человек рожден для счастья, как птица для полета! — Он вытянул из сетки, которую Рита опустила ему на колени, банку с курицей в желе и покрутил ею над головой.
Феликс отправился к себе в номер — сменить рубашку и прихватить пачку сигарет из небольшого запаса, взятого в дорогу.
В комнате, несмотря на открытое окно, плавал сизый туман. До того густой, что контуры двух человек, пристроившихся у стола,— он видел только их спины и затылки показались ему нечеткими, размытыми. Папки, которые Феликс утром разложил на столе, были перенесены к нему на кровать, вместо них громоздились удручающих размеров фолианты, напоминая о сухом пощелкивании конторских счет, черных нарукавниках и бьющейся в стекло ленивой осенней мухе.
Бомбист-романтик — один из двух был, разумеется, он — нехотя оглянулся, но, увидев Феликса, тут же вскочил. Ни в его белобрысом лице с по-мальчишечьи вздернутым носом и выпяченными губами, ни в голосе, которым он принялся поспешно выборматывать какие-то извинения — по поводу то ли своего вчерашнего вселения, то ли папок, перемещенных на кровать,— ни в чем не было и следа прежнего апломба. Но в потоке извинений, хлынувших на него, Феликс ощутил напор, чем-то его даже смутивший.
— Да нет,— сказал он,— вы ничуть... Вы продолжайте, я все равно... Меня ждут.
— Тогда хотя бы познакомимся... Гордиенко Сергей. А вас я знаю, и рад... Очень рад...
Он улыбнулся — широко, всем лицом, и пожал руку — крепко и подчеркнуто бережно.
И во взгляде светлых его глаз, которые как бы и участвовали в общей улыбке, и вместе с тем сохраняли какую-то автономность, и в этом особенном, чуть дольше необходимого, рукопожатии Феликс почувствовал некую многозначительность — не то надежду на пробужденный интерес, не то приглашение к разговору.
— Я тут от редакции... Кстати, познакомьтесь.
Навстречу Феликсу поднялся невысокий, плотного сложения человек с темным скуластым лицом и маленькими, остро блеснувшими глазами. На нем были грубые, белесые от пыли сапоги и поношенный пиджак с мятыми лацканами и протезом в обвисшем правом рукаве, составляющем с плечом безжизненный прямой угол. Протягивая Феликсу левую руку, он положил на край стола — пепельница была полнехонька — длинную кубинскую сигарету, от которой исходил чадный, горький запах, пропитавший весь номер.
— Казбек Темиров,— произнес он отрывисто.
Не тот ли, вспомнилось Феликсу, из-за которого этот бомбист мечтает спалить город... И с неожиданной симпатией улыбнулся обоим. Возможно, блокнот на столе, с заложенной в него поперек ручкой, и этот смрад от крепчайших сигарет, явно не для городских легких, и эта давешняя вспышка в чайной, и эти сапоги, от которых веяло долгими степными километрами, странно повернули его к утренним воспоминаниям, к редакции на окраине стройки... К тому, куда, знал он, уже нет возвращенья.
Какая-нибудь каверза, думал Феликс, торопливо натягивая свежую рубашку. Какая-нибудь история, конечно же, несправедливая, возмутительная, из-за которой нужно немедленно перевернуть вверх дном весь белый свет...
Он скомкал мокрую от пота — хоть выкручивай — рубашку, сунул в целлофановый мешочек и, нашарив среди вороха белья две пачки сигарет, захлопнул крышку чемодана. Он чувствовал: те, двое, в молчании дожидаются чего-то за его спиной, какого-то слова, вопроса... Одну пачку он затолкал в слипшийся карман, другую с небрежной щедростью кинул на середину стола:
— Та же отрава, только с фильтром...
Похоже на выкуп...— усмехнулся он мысленно. Хотя — что и у кого было ему выкупать?..
Впрочем, не известно, как бы еще обернулось, если бы не Рита. В дверь громко постучали, и, не дожидаясь ответа, она ворвалась в номер, с пестрым халатиком через руку, поверх полотенца, помеченного гостиничным клеймом. В самой стремительности ее появления ощущалась уверенность в неоспоримой радости, которую доставит ее приход, неожиданный и милый, как подарок...
— Ой,— вырвалось у нее,— я думала, вы один... Здравствуйте.
— Привет,— буркнул бомбист.
— Я за вами,— сказала Рита, обращаясь к Феликсу.— Вас ждут.— И, когда дверь за ними закрылась, в коридоре зашептала, заговорщицки приложив палец к губам:— А я шла к вам, хотела попросить разрешения переодеться... То есть чтобы вы оставили мне ключ, а я бы через пять минут вам его принесла,— уточнила она, перехватив его недоуменный взгляд, и рассмеялась.— Ну и наглая девица,— правда, вы ведь так сейчас подумали?.. Но как мне быть? У нас люди...
Болтая, они шли по коридору, такому узкому, что Рита все время задевала его локотком, то ли нечаянно, то ли с намереньем, и он подумал, вспомнив недавнее свoe ощущение, что есть какое-то сходство в напоре, натиске — у нее и у бомбиста.
В просвете между двумя крыльями коридора, у тумбочки, он вдруг увидел Айгуль, она говорила с Рымкеш. Ему почему-то показалось — о нем, или о чем-то, имеющем к нему отношение, во всяком случае разговор с их появлением прервался, и потом, как бы в подтверждение сказанного, взгляды обеих снова встретились — и разошлись. Вслед за тем Айгуль, царапнув его глазами, уставилась на Риту и в упор, с откровенной неприязнью, принялась рассматривать ее лицо.
Феликс почувствовал себя застигнутым в момент преступления. Ну, «преступление»— это, пожалуй слишком, однако неловкость он в самом деле почувствовал, увидев себя глазами. Айгуль рядом с Ритой, с ее болтающимся на локте халатиком и не успевшей схлынуть шалой улыбкой на губах...
Айгуль была в белом платье, туго стянутом в тонкой талии и особенно оттенявшем золотистую смуглость ее кожи. Он что-то спросил о мемуарах Яна Станевича, по ее словам, ожидавших его в музее, и по затяжке в ответе Айгуль предположил, что томик записок лежит у нее в сумке, просторной и не очень рабочей, скорее выходной, скорее такой, с которой в ее возрасте отправляются на свиданье,— с такой сумкой и в таком платье... Айгуль тут же пояснила, что зашла по единственному делу — обговорить с артистом Гронским сегодняшнее выступление в Доме культуры, а вместе с тем (о это ледяное, сквозь зубы выдавленное «вместе с тем!») познакомиться с его помощниками, ассистентами...
Все это забавно, сказал он себе, пропуская обеих вперед, забавно, мило и ложится в водевильный сюжет, но все это слишком отвлекает, и то Карцев, то гипнотизер, то романтические беседы под плеск волны, то экскурсии в местные продмаги,— это взамен жизни уединенной, исполненной трудов и вещих прозрений... Будет ли этому конец, черт побери?..
Гронский, по-прежнему восседая в порядком продавленном плюшевом кресле, что-то рассказывал Карцеву и Спиридонову, пригубливая из стоящего перед ним стакана. Он раскраснелся, на мясистом его носу цвели склерозные фиолетовые веточки. Толстая шея блестела, как лакированная, пот сочился по ней, сбегая на грудь, в заросли седой шерсти, торчащей из-под распахнутого ворота. Видимо, мастер психологических опытов был увлечен своим рассказом, при появлении Айгуль он взглянул в ее сторону с явной досадой. Однако в номере тут же возникла некоторая суетливость. Спиридонов кинулся вытирать со стола винную лужицу, в самоотвержении употребив на это свой носовой, и без того, впрочем, не совсем чистый платок, а Карцев пересел на коротко всхлипнувшую под ним койку, освобождая стул для гостьи. Сам же Гронский произвел руками и всем корпусом широкое движение, как если бы намеревался тотчас облачиться в пиджак, свисающий со спинки кресла, чтобы принять надлежащий случаю вид... Впрочем, ни одному его жесту Феликс не поверил и только усмехнулся тому, как легко и эффектно тот сыграл свою роль.
Айгуль тоже оценила неловкость своего прихода, своего неожиданного вторжения в эту разомлевшую от жары и вина компанию, но отступать было поздно. И потому она почти с отчаяньем всплеснула руками, гася возникший по ее поводу переполох, и с тем же почти отчаяньем, озирая бутылки из-под молдавского портвейна, сказала, что чувствует себя такой виноватой, ведь здесь шел, наверное, очень важный и серьезный разговор... Она даже отступила назад к двери, и едва дала себя удержать, едва позволила Гронскому чмокнуть ее в ручку, и вернулась, и скромно присела на самый краешек оставленного Карцевым стула, и спустя минуту, как и все, только, может быть, особенно почтительно внимала Гронскому, который, испросив у нее позволения отодвинуть на время деловые вопросы, продолжил прерванный рассказ.
Вначале Феликс его слушал вполуха, невольно любуясь Айгуль, в своем белом платье и белых босоножках как бы источавшую вокруг свежесть и прохладу,— любуясь и втайне восхищаясь ее игрой, где, впрочем, не было игры, а был прирожденный политес, а вместе с тем и хорошо упрятанное презрение к ним, мужчинам, а вернее — мужланам, потным, грубым, неспособным ощутить струящийся мимо их лишенных чуткости ноздрей легкий, тонкий, упоительный запах... Она не так проста, подумал он,— эта девочка.