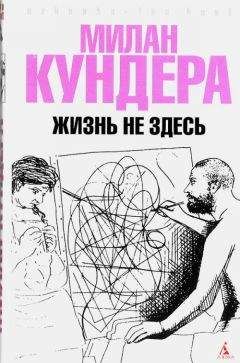Валерия Жарова - Сигналы
— Ну, это очень все приблизительно, — вступился Тихонов за Китай. — Они и фигуристов производят, и скрипачей, и программеры очень приличные…
— Идеальные солдаты, — повторил Семенов. — Я разве что, разве против? Пусть воюют… Просто они танцуют там, на льду, — будто их назавтра расстреляют. И на скрипке так же… Очень чувствуется.
— А у вас не так?
— У нас не так, нет. — Семенов снова усмехнулся, и непонятно было — жалеет он, что у них не так, или радуется. — У нас энтузиазм. Это же великое дело — когда никто не знает, что получится. Это вам не пулемет собирать и не холодильник.
— А скажите, — спросил наконец Тихонов, давно лелеявший этот вопрос, но никак не решавшийся его задать, — в открытом городе может быть что-то подобное?
— Нет, конечно, — сказал Семенов, снова без паузы, словно только этого вопроса и ждал. — Знаете, был эксперимент такой в семидесятые. Моделировали эволюцию на ЭВМ. Ну, какие тогда были ЭВМ — сами знаете, но, в общем, как-то у них не моделировалось появление панциря. Все есть — а панциря нет. Что такое? Да они же внешнюю угрозу туда не внесли! В стартовых условиях, — повторил он для невидимых непонятливых, — нет внешней угрозы. Так и тут: если у вас нет закрытого пространства, откуда в нем возьмется давление? Кто будет его нагнетать? Без давления у вас так же ничего не выйдет, как у ребенка невоспитанного, которому все можно. Но давление это должно быть осознанным, понятным! А не так, чтобы каждое утро брали непонятно за что, или ночью обыски, или бить в подворотне. Это не самодурство и даже не государство, это слу-же-ни-е! Вот почему я и верю, что только с закрытых заводов выйдет когда-нибудь будущее России… которое я и произвожу… а больше ему неоткуда взяться, молодой человек, но только этого ты не пиши. А впрочем, что хочешь пиши, но не печатай. Важно же то, что ты написал и что с тобой от этого сталось, а кто тебя прочитал — дело десятое. Хочешь посмотреть одиннадцатый цех?
8
То, что увидел Тихонов в одиннадцатом цеху, потрясло его именно потому, что нечто подобное он как раз ожидал увидеть, но, разумеется, не мог себе этого представить. Нас всегда потрясает совпадение наших тайных догадок с реальностью — вот какие мы умные! — но верный вектор еще не означает точного представления. Да, он думал правильно, но то, о чем он думал, оказалось в реальности бессмысленней, торжественней и грандиозней. Он увидел изделие номер шестнадцать и мог бы его описать, но его сознание не могло вместить увиденного.
— Вот, — с гордостью сказал Семенов. — В этом цеху делается у нас на полной автоматизации главное ноу-хау — новый человек. На этом изделии — номер шестнадцать, как вы знаете, — он, так сказать, обтачивается.
Явление изделия номер шестнадцать было подготовлено с почти театральной роскошью. Семенов провел Тихонова через три кафельных коридора, сверкающих хирургической чистотой; через три проходных, где директору приходилось прикладывать к пультам три разных пропуска, и через огромные железные ворота во дворе; приходилось идти то под землей, то поверху, среди неожиданно мирных, заросших полынью и сухой травой асфальтовых дворов, они обходили мазутные лужи, долго шли вдоль огромного бассейна, от которого шел густой химический запах, — заглянуть туда было нельзя из-за высокого бортика, из-за которого валил лиловый пар; над территорией завода включились гигантские прожектора, и пейзаж окончательно стал инопланетным. Наконец Семенов набрал сложную комбинацию на кнопочном замке, и черные створки медленно разъехались.
— Одиннадцатый цех! — сказал Семенов и отступил вправо, пропуская Тихонова.
Перед Тихоновым стояла — но это не то слово, потому что непрерывно шевелилась, — бесконечная стена, которая жужжала, тикала и свистела ремнями; это была пятидесятиметровая в длину и шестиметровая в высоту плоскость, состоявшая, если вглядеться, из бесчисленных разноразмерных шестеренок, зубчатых колес, трансмиссий, пружин, ремешков, находившихся в непостижимо сложных связях. Все они крутились с разной скоростью, некоторые — беззвучно, другие — с щелканьем и тиканьем, часть издавала музыкальный звон. Здесь, видимо, никогда не выключался синеватый свет, и в этом свете блестело идеально чистое, превосходно смазанное железо: эти блестящие шестеренки казались столь же неисчислимыми, как звезды на небе, и само звездное небо долго потом представлялось Тихонову набором таких же тесно связанных, непрерывно трущихся колес, чей слабый отблеск едва долетает до нас. Если мир был как-нибудь устроен, он был устроен так.
Проследить хоть иллюзию порядка в этом раз навсегда запущенном механизме не мог, вероятно, и сам его создатель. Лучшей метафорой сложности и разнообразия не могла стать никакая электроника. Электроники тут и не было — все крутилось на честном машинном масле, стиралось, заменялось, ни на секунду при этом не останавливаясь; все эти разнонаправленные вращения задавал один крошечный, наверняка невидимый валик — и все металлическое мироздание начинало передавать его импульс, уменьшавшийся в бесконечном трении, но никогда не исчезавший до конца. Тихонов минут десять стоял, любуясь, то приближаясь на шаг, то отступая, ничего не понимая и не пытаясь понять. Ради этого стоило содержать завод, город, планету — которая, очень может быть, только благодаря этому еще и вертелась. Сверкали железные звезды, пели железные птицы, все было беспричинно и взаимосвязано, не имело ни начала, ни конца, ни смысла, но страшно напряжено и бесконечно разнообразно.
— Ну хватит, — сказал наконец Семенов. — Насмотрелись.
— Простите, — прошептал Тихонов, но голос его растворился в тиканье и свисте. — Простите, — повторил он громче, — а многие это видели?
— Немногие, — серьезно ответил Семенов. — Но немногие сюда и приезжают, хотя город давно открыт. Монастырь работает, источник бьет. Завод закрыт, конечно, но некоторые прорываются. Я обычно сам выбираю, кому это нужно. Вам, по-моему, нужно.
— Очень, — в тон ему ответил Тихонов. — Исключительно. Наверное, писать ничего не надо?
— Почему же, — удивился Семенов. — Обязательно надо. Только напишите так, чтобы никто не понял.
— Попробую, — честно пообещал Тихонов.
9
До «Лосьвы» он добрался к десяти вечера. Профилакторий являл собою длинную трехэтажную постройку невнятного цвета, хоть и недавней покраски; при свете фонаря над входом она казалась просто серой. Широкое крыльцо с косоватыми бетонными ступенями, кривые железные перила — весь он выглядел кривым, неаккуратным, но абсолютно надежным именно в силу этой косоватости, внесенной в расчеты не иначе как гениями из НИИ. Все прямое тут давно упало. Краска новая, но с застывшими потеками, и линия, где кончается краска и начинается побелка, всегда неровная — по этой неровной линии, очнувшись после сна или обморока, всегда можно опознать местную вещь, будь то больница, санаторий, общежитие, отделение милиции или триллер с элементами пародии. Но фойе со стойкой, типа ресепшен, Тихонову понравилось, всколыхнуло в нем ностальгию по тому, чего он не застал: огромные пыльные фикусы в кадках по углам, ковровая дорожка, деревянный круглый столик с жесткими креслами, обшитыми грязно-красной тканью — все это можно было еще встретить в гостиницах в глухих городишках, причем там это воспринималось как прошлый век, признак отсталости, а здесь было абсолютно на месте и даже намекало на некоторую роскошь. В углу висел телевизор, по которому показывали без звука футбол — Тихонов так и не понял, кто против кого, ничего было не разобрать через рябь и помехи. За стойкой стояла заспанная квадратная женщина с отпечатком круглой пуговицы на щеке. Наблюдательный Тихонов зачем-то отметил, что на ее блузе пуговиц такой формы и размера нет.
— Завтрак в столовой в восемь, — сообщила тетка, не глядя на него, и положила на стойку ключ. — Распишитесь.
Обстановка комнаты погрузила Тихонова в совсем уже элегическое состояние: две узкие койки с лакированными бортиками вдоль заднего края, под гобеленовыми покрывалами, подушки треугольником, такие же лакированные тумбочки, на каждой по граненому стакану. Форточка с бечевкой — дерни за веревочку. Скрипучий шкаф в одном углу, письменный стол — в другом, все разного цвета и с чайными кругами. Тихонов скинул куртку и ботинки и вытянулся поверх покрывала. От подушки пахло прачечной. Как писать про Семенова, он не знал.
То есть все, все он знал бы, окажись это редакционным заданием. Но здесь нужно было иное. Почему-то он был уверен, что если результат не понравится директору, то все последующее уже ой как не понравится самому Тихонову. Да и как сказать это? «Продукция Перова-60 настолько секретна, что держится в секрете даже от рабочих», — прикидывал Тихонов. Нет, это ерунда. «Перов-60 не отмечен на картах, и случайный человек сюда не попадет». Тоже не годится — они же попали, и как попали! Вдобавок все в Перове знали о существовании Перова-60, но во времена дефицитов сюда не пускали, а с девяностых, когда город открыли, ехать туда было бессмысленно. «Вот уже который год генеральный директор далекого уральского завода Максим Семенов делает что?» Тихонов даже услышал в голове голос, произносящий это: голос советского диктора, звенящий баритон с еле сдерживаемым то ли ужасом, то ли смехом — старые передачи крутили по кабельному каналу, и Тихонова всегда завораживали эти голоса: неторопливостью, многословием, обилием эпитетов и постоянно сдерживаемым желанием сказать что-то совсем не то. Упомянуть среди рапорта какую-нибудь жопу. Потом, конечно, гори все огнем, но миг прорыва! Теперь таких дикторов не делают, да и о чем сейчас можно было бы рассказать таким голосом? Закрыв глаза, он увидел и саму передачу о «Перове-60» — черно-белая съемка, ряды станков, серьезные рабочие, поглощенные работой и не обращающие внимания на камеру — вот камера проезжает по цехам, вот крупный план какой-то машины, вот опять станки, коридоры — а затем монтаж, склейка, — и на весь экран лицо Семенова: сосредоточенный взгляд куда-то вниз, рука, подпирающая высокий нахмуренный лоб. Камера отъезжает, и видно, что Семенов склонился над бумагами за столом у себя в кабинете. Вот он поднимает голову, смотрит на зрителя и говорит не своим, размеренным голосом, улыбаясь: