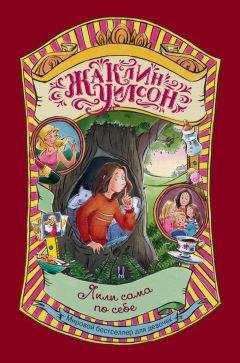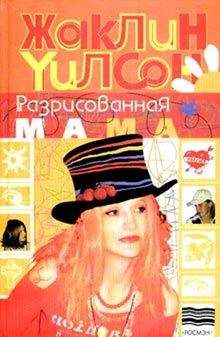Аркадий Макаров - Парковая зона
Хотя было лето и ночи стояли теплые, Метелкина бил и бил озноб, а до рассвета прошла целая вечность. Но и с рассветом не прошла горечь этой ночи, она запомнилось на всю жизнь…
– Я с тобой дружить буду! – сладко потягивалась утром Верка. – Приходи еще!
Иван приходил. Угощался вином, даже оставался наедине, жадно, взахлеб, целовался, но спать с собой Верка его уже не приглашала. Дружить – дружи, а телу воли не давай. Не дорос еще!
Жить в общежитии – это всё равно что жить на вокзале: одни уезжают, другие прибывают.
Вот и Санёк ушёл к своей Нинке на постой, разменяв шебутную холостяцкую жизнь, пусть и голодную, но необременительную, на кашу с маслом в семейном чугунке. На вопрос Ивана о свадьбе Санёк коротко хохотнул:
– А на фига козе баян! Она и так попляшет! Давай споём, ведь где-то играют!
На прощанье Санёк поставил литр водки, и теперь они с ним – оба два – пели, обнявшись, как родные братья, песню всех времён и народов:
Я приехал к миленькой в дальнее село.
Розочкой любимое личико цвело.
Я сначала милую, а потом бычка
Грохнул ломом по рогам резко, с кондачка.
Если жизнь-обидчица суёт фигу в нос,
Пусть рога величества разрешат вопрос.
Нет у милой памяти, силоса зимой,
И играет Гамлета мусорок с братвой.
– Эх, Ванька-встанька!
И ушёл Санёк в тихий семейный омут, даже не притворив за собой двери…
14
В общежитии тебе не дадут поскучать в одиночестве.
Подселили к Ивану сразу двоих, чтобы особенно не тосковал: Витьку Мухомора и Поддубного Ивана, тезку.
Лежит Ваня на сиротской кровати, заправленной вытертым бумазейным одеялом из списанных солдатских запасов, читает книгу «Технология металлов». Учиться Иван хочет. На монтажной работе можно только получить «Орден Сутулова».
Будет учиться – может, летом в армию не возьмут, дадут получить образование…
– Ну что, ёк-макарёк, все читаешь? Ученым хочешь быть? Наука… Нами, работягами, брезговать начнешь, а? – над Иваном склонилась веселая морда Вити Мухомора.
Кличка у него была подходящая. За что она к нему прилепилась, никто не знал: то ли за рыжую голову, то ли за большое, почти во всю щеку, родимое пятно цвета красной меди, а то ли еще за что, – но кличка к нему припаялась так, что он ее за всю жизнь отодрать не сумеет.
Может, Витьку прозвали так обидно еще и за то, что он имел исключительную способность к ловле мух.
Бывало, придёт Иван в обеденный перерыв в столовую, отстоит приличную очередь, только примостится к столу, а Витька уже рядом с подносом подъезжает. Разложит тарелки и горстью так – чирк перед носом, – и вот она, муха, как есть, у Метелкина в тарелке плавает, облитая жиром, вся розовая от наваристого борща, сытая…
Идти на кухню просить замену – только оскандалишься, да и есть уже почти расхотелось.
Ребята за это бить его не били, а обедать с ним вместе избегали. А Иван по молодости и на его кивок головой (мол, присаживайся, чего там, я ведь для тебя только место держу), вздохнув, всегда садился рядом.
Витя действовал безошибочно. Он видел, что рядом столы все заняты, а на приглашение отказаться молодой парень не сумет, неудобно – еще деликатность от школьной парты оставалась, еще не все выветрилось, хотя ветерок в голове погуливал.
И вот, помявшись, Иван садился рядом с Мухомором, чтобы тут же получить в тарелку невесть откуда взявшуюся очередную жужжалку.
В таких случаях он отодвигал тарелку, а сосед, вопросительно посмотрев на него, спокойно доедал борщ, обзывая Ивана презрительно «интелигентиком» и «наукой».
Парню ничего не оставалось, как приняться за второе, пока руки у Мухомора были заняты.
Витя, оставив в милиции права на вождение автомобиля, работал в бригаде монтажников подсобником, на подхвате, как говорил бригадир.
После шоферских непременных шабашек, здесь ему было скучновато, и он, доставив на объект кислород, металл, пропан, разные заготовки и метизы, обычно примащивался в бытовке на ящиках, прикрытых всяким хламом, возле раскоряченного «козла» с пылающей нихромовой спиралью, и подремывал, посасывая свою вечную «беломорину».
Жил он с Иваном мирно и по-своему уважал его за начитанность, которой сам похвастать не мог.
Ивана в бригаде, как самого грамотного, ставили всегда на разметку заготовок.
Работа, надо сказать, муторная – перенести все размеры деталей с чертежа на металл и напарафиненным мелом, не боящимся дождя, вычертить детали в натуральную величину. Не дай Бог ошибиться! Да если таких деталей штук пятьдесят-шестьдесят, а то и сотня, да загробишь металл… От бригады в лучшем случае получишь по шее, а в худшем – стоимость металла могут вычесть из твоей зарплаты, которую и без этого тянешь, как резину, до конца месяца и не всегда дотягиваешь…
Работа, что ни говори, препаскуднейшая. Особенно зимой. В рукавицах ни метра, ни штангенциркуля руками не удержишь, а без рукавиц пальцы так скрючит, что ширинку по малой нужде не расстегнешь, хоть зови кого.
Придешь, бывало, в бытовку и за раскаленную спираль чуть ли не хватаешься. Ботинки не стащишь – носки к подошвам примерзают, а Витя Мухомор лежит-полеживает, да еще зубы скалит: «Ну, как, – говорит, – „Наука“, когда стоит мороз трескучий, стоит ли член на всякий случай?»
Иван посылал его в сакраментальное место, состоящее из пяти букв, но Мухомор на него за это не обижался, только всегда говорил, что там хорошо, как в бане: тепло и сыро.
А Иван Поддубный, по первой кличке Бурлак, – коренной волжанин, бывший капитан речного флота.
Фуражка с крабом – это все, что осталось от его прежней жизни. Посадив по пьяни пароход на мель, он сбежал от ответственности и осел на стройке, забыв в управлении Речного Флота свою трудовую книжку. Делать он ничего не умел, а силенки были еще о-го-го какие! Вот его и взяли бетонщиком, лопату он держал хорошо.
Работа бетонщиком – одна гробиловка. С вибратором так натаскаешься, что потом руки еще долго ходуном ходят. Еда нужна калорийная, а денег обычно хватало только на щи из костного бульона, да на гарнир. Кабы не пить, оставалось бы и на мясо в щах и на котлету.
Но это – кабы не пить.
Иван Поддубный был человеком многоопытным, прошедшим вдоль и поперек школу жизни.
Обычно с получки он, пока был трезв, приобретал несколько бутылок рыбьего жира, который в то время шел за бесценок в любой аптеке.
Водку пил, не оглядываясь на завтра, а рыбий жир берег до случая.
Когда кончались деньги даже на макароны, он подпитывался рыбьим жиром. Бывало, встанет с утра, брухнётся нечесаной головой, схватит одной рукой себя за волосы, а другой – рыбий жир. Мучительно скосоротится, сделает тройку глотков – вот и позавтракал, вот и ничего, вот и работать можно…
Бурлак знал, что делал…
Вот такие у Ивана Метелкина были первые учителя-наставники, которых он, конечно же, никогда не забудет.
В то время Иван учился в вечернем техникуме, прилежания особенного не было, но время занято, и это спасало его от почти ежедневных пьянок.
Но слаб человек перед соблазном!
Сегодня Ивану почему-то в техникум идти не захотелось, в такую погоду хозяин собак не выгоняет, и он, отложив в сторону учебник, уставился на Витю Мухомора, гадая, куда это он так сегодня вырядился?
Бурлак в это время смазывал своим рыбьим жиром рабочие, на толстой антивибрационной подошве (других не было) ботинки, тоже готовясь в культпоход.
И Мухомор, и Бурлак были трезвыми и голодными, значит, опять пойдут к торфушкам – так они называли женщин на кирпичном заводе, которые могли покормить и обиходить только за один щипок любого неприкаянного холостяка.
«Торфушки» – распространенное в то время название всех женщин и девчат, прибывших в город на тяжелые условия труда в основном из сельской местности, которые были либо завербованы, либо по комсомольским путевкам, что, в общем-то, одно и то же.
Тогда так и только так можно было вырваться из колхозного ярма, получив паспорт. Значит, в колхозной круговерти было еще хуже, чем гробиловка подсобницами на стройках, на дорожных участках, на торфяных разработках и лесоповале. Хоть какие-то деньги, но платили.
Перемещенные, если можно так назвать, женщины были в основном или разведенки, или девицы-оторвы, которые, вдохнув свободы, без родительского глаза готовы были восполнять утраченные возможности деревенской юности, где каждая на виду, и надо во что бы то ни стало блюсти себя и, если уж под кого лечь, то непременно после соответствующей расписки в сельсовете.
Хотя и тогда было всякое…
Торфушки, к которым собрались его старшие товарищи, жили прямо на кирпичном заводе, где и работали, в длинном сарае для сушки кирпича, наскоро переделанном в жилой барак с отсеками на четыре-пять человек.
В каждом отсеке стояла печь, прожорливая и бокастая, которую девчата кормили дармовым углем, взятым здесь же, у печей обжига.