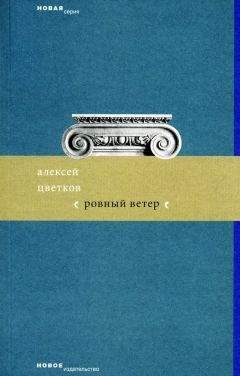Вера Галактионова - Спящие от печали (сборник)
Скоро, улыбается Бухмин. Осталось порог дома перешагнуть. Победа, победа, это – она…
* * *– Помнишь ты Шарика нашего? – не оборачивается тётка Родина, а сгибается то и дело на быстром ходу, выдёргивает, тащит из бурьяна сухой корявый прут, и ещё один подбирает; для печки. – Как только забор мы зимой сожгли, разгородились перед всем светом, он, Шарик, всякую границу потерял! Без забора не понимает, сколько земли нужно охранять. Стал думать, что теперь всё село – наш двор. Носится с утра до ночи по большому кругу, лает, лает, того и гляди ноги протянет… От усердия так умаялся, глупый, так отощал – роздыху не знает! Охрип совсем, Шарик. С ума сошёл. Нет, разве так можно – себя не жалеть? Всех охранять, кого ни попадя?!. Дети на речку ушли. Вернутся скоро. Ты их не узнаешь, подросли… А Павел погиб.
– Ты писала, под Курском, – идёт за нею, след в след, Бухмин. – Там наших много сгорело в танках. Тыщи ребят прополыхали, как свечки. Я знаю.
– Как свечки, – повторяет она голосом покорным, угасшим. – Наверно… А нам написали, что – пал. Не сгорел, значит. Павел.
Спешит тётка Родина, торопится. Бежит на горку в мужском просторном пиджаке, прижав тяжёлый карман правой рукою. А левой, пригибаясь, всё подбирает что-то – палку, сухую ветку, прут.
– На, и ты неси…
И снова вскрикивает сокрушённо:
– Убьют его! Шарика… Грозились… Вон он бежит! Извёлся, дурак ненормальный. Стал скелет… Гляди: шерсть клоками висит. В репьях весь и бока ввалились… Страшный, как чума карагайская… Мешает всем Шарик наш! Убьют, сказали.
– Кто сказал?
– Кто… Чеченцы!
И вот уж она, околица села. Но ничего не узнаёт вокруг Бухмин, поглаживая на ходу скулящего запаршивевшего пса, жмущегося к ноге:
– Привет, трудяга…
– Видишь, сакли у нас теперь, – сухой палкой показывает тётка на глинобитные странные строения, сооружённые наспех. – Сроду таких тут не бывало.
И Бухмин, с хворостом под мышкой, видит на улицах всё тех же плечистых горцев в каракулевых папахах, и прямых молодых женщин, и неприветливых старух, похожих на орлиц, и смуглых детей, играющих в ножички.
– Ты вот зря в военной форме приехал, – опасливо косится на Бухмина тётка Родина. – Не любят они военных. А ты ещё и с медалью. Какая у тебя?
– За боевые заслуги.
– Ну вот. Уже заметили они. Надо было – в гражданской одежде…
* * *Помчался Шарик дальше, вкруг села, под свой хриплый, глухой добросовестный лай, похожий на кашель. И дом, родительский, просторный, словно сжался в размерах и не узнаёт уже Бухмина, бросившего к печке сухие прутья. И те же запахи в нём, те же половики, те же занавески. А души дома не осталось, что ли? Истаяла будто душа.
Тётка Родина вытащила нож из кармана.
– Садись! – сказала. – На венский стул. Один старинный, дедушкин, уцелел у нас… На, режь хлеб, Феденька. Дай, поцелую тебя в макушку.
Ткнувшись лицом в вихры Бухмина, тётка проговорила задумчиво:
– Живой… Маковка поездом пахнет, пылью, – и села напротив, подперев щёку ладонью. – Живой… Режь, режь.
– Погоди!
Привычным движением, не вставая, достаёт Бухмин с полки брусок. Плеснув на него водицы из чайника, прилежно и мерно чиркает краешком лезвия по сырому.
– Вот, две хохотушки в доме были, ты и тётка Бухмина, – улыбается он мальчишеской своей поре. – А встречаешь – одна.
– Писала, что, как состарится, то помирать сюда приедет! Хохотушка, – рассеянно отвечает тётка Родина, постукивая створками буфета. – Не хочет, чтобы её в Сахалин зарыли… Письма тебе поискать? Если надо – поищу… Она и сыну своему наказала, давно уж: «В Сахалине лежать не буду!» А я ей отписала: «Поживёшь ещё! Не старая…» Там у них рыбы много, она для здоровья полезная… И для здоровья, и для долголетия.
– Та тётка мне чужее была, – сказал Бухмин. – Она меня за вихор драла, бабища.
– Один раз – ничего! – посмеялась немного тётка Родина. – Вот, не надо было её почерком записки Тимоньке горбатому писать: «Я тебя люблю, давай поженимся»… Она, может, с этого расстройства к солдату своему на Сахалин уехала поскорей, от стыда. И выйти не успела, как разошлась… Из-за тебя всё, Феденька!
Но снова будто тенью накрывает тёткино лицо, просветлевшее только что.
– А шкерят они рыбу – это солят, что ли, на заводе у себя? – спрашивает она озабоченно, ставя на стол миску с двумя рыжими оладьями. – Или это – потрошат?.. Сытно, наверно, при рыбной-то работе жить, при пищевой, а? Федь? Всё уж отходы какие-нибудь им достаются! Жабры на ушицу, небось, каждый день: хорошо!.. У нас тут Митя пескарей майкой наловил, в ямах, когда половодье спадало. Вкусно тоже нам было…
Но Бухмин ушёл, не дослушав, к рукомойнику под яблоней и наскоро помылся. Хорошо, что своя вода – не меняется. Не убывает, не старится, думал он, обсыхая на ветру. И земля…
* * *За тарелкой кислой капусты, за банкой тушёнки, привезённой Бухминым, и за вином заморским слушал он потом тётку, не спрашивая ни о чём.
– Дети скоро придут. Митя с Гришенькой хорошо за девчонками смотрят. В рост их гонит обоих! А на чём – расти? Не на чем… Федя маленький покрепче. Ну, у него кость широкая, отцова… А Пашу моего под Курском убили! – не ест, всё смотрит тётка Родина на Бухмина распахнутыми сонными глазами, как сомнамбула. – В боях он пал. Смертью храбрых погиб. Вот, нас отстоял зато.
– Знаю… Помянем!
– Ты пей, мне не надо. А то я плакать начну. Себя потом не соберу, – отворачивается тётка к окну, поправляя косынку. – Дрожать во мне всё начнёт.
– За Павла же!.. Не водку я привёз, а для тебя: сладкого. Компот, считай. Не выпивка.
– Ну, если за Павла, – послушно кивает тётка, поднимая рюмку с осторожностью. – Комбайн его вон там стоит, на тракторном дворе, под навесом. Отсюда, из окошка, видать… Без дела заржавел, негодный, наверно… Ладно. Царствие небесное Паше.
И утирается она ладонью долго, крепко:
– Нас отстоял зато… Не спьянеть бы… Как свечки, они, говоришь, горели?
– Как свечки.
– А наш – пал. В танковом бою. На поле, в сражении… Ну, всё равно, в раю они – вместе. Кто пал, кто сгорел. Воины… А помнишь? Боялся он, что замуж без него выйду? Учиться из-за этого не поехал в город, медалист золотой! Вот, бросил бы меня тогда, был бы юрист. Лучше для него было бы!.. Дела бы военные перелистывал. До самой победы… Видишь, как получилось? Глупо.
* * *Из горы привезённого развесного шоколада выбирает тётка Родина квадрат – прищурившись, ищет самый обломанный, не целый.
– Сладкий какой! – жмурится она. – Горький какой!.. Ты пей, мне хватит. За себя. За победу. Что нас отстояли… Ну, вот. А я одна, с пятерыми сиротами на руках осталась, Федя. С сиротами я на руках, милый ты мой… То кур держала и петуха, чтобы детям по яичку сварить, подкормить, раз хлебца на всех нету. И получалось у меня, худо ли, бедно. Так чеченцы всех кур у нас перетаскали! Сразу, как приехали!.. Перерезали, съели всех наших кур, – уронив руки на колени, заплакала тётка. – Детям ничегошеньки не оставили… Всё тащут. Бельё теперь дома сушим. Щёлоком стираю, мыльца нету. Золу запариваю… Забор мы ещё во вторую зиму сожгли. И без единого полена, Федя, мы эту зиму зимовали! Украли они у нас все наши дрова, перед самым снегом, пока Шарик, дурак, по кругу носился…
Утирается кухонным полотенцем тётка Родина, плачет навзрыд – и опять утирается докрасна:
– Ох, говорила: нельзя мне вина, ни капли. Нервы слабые стали… Зря только надрывалась, от Иртыша самого топляк с детьми волоком тащила, а он сырой, тяжеленный… Распиливали с детьми, всем гуртом. И вот… Чудом не перемёрзли мы, Федя!.. Огород не сажали нынче: без толку. Сопрут. Семена вон, в мешочке, без дела пролежали… И какая только сволочь их к нам выслала, на погибель нашу?! Вот, в глаза бы я этой сволочи плюнула!
Бухмину молчать уже было не с руки.
– Мне в глаза плюнь, – сказал он. – Я их высылал.
* * *Зажав рот, простонала тётка Родина совсем тихо. Потом раскачивалась на табурете из стороны в сторону, словно у неё болели зубы.
– Зарежут ведь они тебя, Федя, – сказала она, глядя на него сухими глазами. – Как только узнают… Что ты их выселял… И нас из-за тебя… Вырежут всех. Вот, как кур наших, так же.
– Пускай попробуют.
– Они – попробуют… Ты ешь, ешь с дороги. Оладышки с лебедой, а хорошие. У меня горстка белой мучицы была! Ждала я… С работы меня Славик нынче отпустил. Привет наказывал передать. Горячий.
– Зайдёт?
– Нет, – зевнула вдруг тётка от какой-то внутренней невыносимой тоски. – Протезом ногу до струпьев стёр. По полям набегался опять, на деревяшке наскакался, лежит, поправляется. А деревяшку его Марья за поленницу спрятала. В дрова… Устала Марья с этой его деревянной ногой по двору носиться. В бурьян приткнёт, за бочку засунет, а он – костыли под мышки, прыг-скок – и всё равно отыщет. Ну, поленницу-то перебирать он не станет: не догадается… Не придёт! Сказал только, чтоб ты…