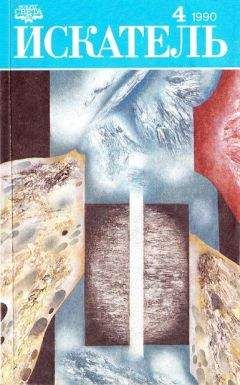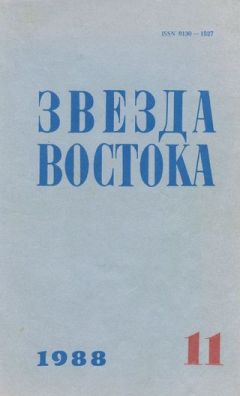Журнал «Новый мир» - Новый мир. № 2, 2003)
С выкупленным хлебом и с тем, что я несла Е. Г., пошла на рынок, выменяла керосинцу и маме «обувку» — два рукава от старой шубы (концы рукавов зашьем наглухо — получатся «валенки», на них галоши).
«В январе 1942 года каждый день умирало от дистрофии не менее 3,5–4 тыс. человек».
В конце января прибавка хлеба. И в счет месячных норм кое-что из продуктов, но это громко сказано: «продукты».
Рабочим и ИТР — 400 гр. хлеба,
служащим — 300 гр.,
иждивенцам и детям — 250 гр.
У нас с мамой — 700 гр. хлеба.
В конце января в воскресенье опять (после долгого перерыва) Рая и я разносили письма. Как много оставалось невостребованной корреспонденции — некому было уже востребовать… или умерли, или не могут дойти до домоуправления (таким домоуправ отнесет).
Гостинцы наши иссякли быстро. После разноски писем позвала Раечку к себе «на кашу» (сварили из остатка пшена). Когда Рая ушла, у нас произошла первая за блокадное время ссора с мамой. Мама выговаривала:
— Сама на ладан дышит, а последнее скармливает… Была рукосуйкой до войны и сейчас такая же… Всех не пережалеешь. Посмотри на себя.
А кашляю я надсадно, сухо, «из нутра». Таблетки не помогают. Та уборочка в комнате, постоянное охлаждение на морозе в хлебной очереди, ледяная постель — усугубляют болезнь. А иногда мне кажется, что острая боль при дыхании — это боль в сердце. Слабость. Не хочется двигаться — при движении тоже боль и удушье. Дышу поверхностно. О боли в груди маме не говорю, не хочу расстраивать. Хочется лежать, дремать, но в лежачем положении совсем дыхание останавливается, а боль усиливается. Разговаривать трудно. Даже есть теперь меньше хочется. Впервые промелькнула мысль — не к смерти ли дело идет… Неодолимо хочется лечь и не вставать… Мама сильнее меня духом и телом. Чтобы заставить меня утром подняться и идти, она употребляет даже грубые, обидные слова… я позже оценила ее метод…
Я не пишу об обстрелах города. Они были постоянными.
Очень долго стояла в очереди, чтобы выкупить сахарный песок (по 100 гр. на человека). Промерзла до костей.
Стоя в магазине у стола, засовывала выкупленный песок в варежку, и вдруг дурнота нашла… и куда-то провалилось сознание. Очнулась — нет ни песка, ни варежек, и опять окутал туман… Я не падала, а туловищем лежала на столе.
Пришла, легла. Отупение. Слез нет. Когда шла из магазина, видела грузовик с закоченевшими трупами (как дрова)…
Маме не сказала, что в магазине случился провал сознания, а просто сказала, что украли песок, за что она обозвала меня «гнилой вороной». Было обидно, а слез нет. Мне кажется, ленинградцы-блокадники «не умели» плакать.
Сожгли «не наш» кухонный столик, дожгли «не наш» шкаф фанерный. И уже не волнуемся, что «не наше» уничтожили. Сожгли бы и комод (тоже не наш), но он из очень крепкого дерева — топор не берет… а может, у нас сил мало стало.
В больнице стараюсь подольше возиться у «буржуек», которые я обязана в определенные интервалы затапливать, — греюсь.
Мама и я всегда носим с собой веревочку, гвоздь. Если по пути домой найдем у разбитого дома что-нибудь деревянное, вколачиваем гвоздь, привязываем к нему веревку и тащим по снегу домой.
Смерть косит ленинградцев. Февраль. Прибавка хлеба — даже крупу отпускают по карточкам (один раз в месяц), но очень уж истощены люди — умирают…
Хлеба:
рабочим — 500 гр.,
служащим — 400 гр.,
иждивенцам, детям — 300 гр.
крупы на месяц:
рабочим — 2 кг.,
служащим — 1,5 кг.,
остальным — 1 кг.
Казалось бы, это уже хорошо: 900 гр. хлеба и 3,5 кг. крупы. (Иногда вместо крупы сушеные лук или морковь.)
«В феврале на город сброшен 4771 снаряд.
От истощения в первые два месяца 1942 года погибло 199 187 человек. Большая часть смертей падает на февраль, несмотря на то что в город прибывают продукты».
И все-таки — последний месяц зимы. Надежда спасает. Весеннее солнце оживит людей.
На дежурстве меня послушала врач — маленькая, худенькая. Слушала ухом. Велела поставить «хорошие» горчичники. Назвала мою болезнь хронической простудой, отягощенной истощением.
От мирного времени мы с мамой имели кулек крупной соли и пакет горчичного порошка. Попросила маму сделать мне горчичники. Хорошо бы горстку мучки подмешать в горчичную массу, но это только в теории. Мама отговаривала от горчичников — еще больше от них простудишься: в комнате холодно, как на улице, только ветра нет, но капля воды на полу покрывается ледяной корочкой.
Горчичники не только не помогли, а ухудшили состояние. Но странно — почему нет жара у меня, температуры? Измеряла — ниже нормы. Медики объяснили, что не бывает у блокадников температуры. А может, все же у меня не легкие больны, а сердце? Боль пронзает именно в этой области. Удушье.
Мои наблюдения (в очередях, на рынке, на работе): всем людям голодно, и все же по-разному — показатель: внешний вид, походка. Тяжелее тем, у кого к началу голода не было запаса крупы, муки, сахара, кто жил одним днем, как мы: без своего угла, без добротной теплой одежды. Когда начались первые затруднения с продовольствием в городе, я, пожалуй, и внимания на это не обратила, так как и до войны была привычка мало есть и почти всегда раз в день… Может, эта привычка и выручает до сих пор. Ах, если бы не болезнь. Я не смотрелась в зеркало с переезда в эту квартиру, здесь у нас нет и огрызка зеркального, а если бы и был — не хочется.
Квартира, где мы теперь живем, состоит из четырех комнат, кроме нашей. Кто жил в тех комнатах, где эти люди сейчас? Почему до сих пор я не думала о жильцах этой квартиры. Что все четыре комнаты заперты — нам стало ясно, когда мы тут поселились. Значит, стало угнетать одиночество в квартире.
Но ни в декабре — январе, ни в феврале ни разу не пришла мысль разломать хоть одну дверь и взять мебель на дрова или поискать съедобного… Спасибо воспитавшим нас… А вот я, сегодняшняя, как поступила бы, окажись опять в том же аду? Наверно, так же.
Жила в нас неистребимая вера, что мир не рухнул, что не одолеть врагу Ленинграда, что наступит время — вернутся в свое жилье эвакуированные, будет квартира со светом, водой, теплом, будет мир, хлеб.
Мой радиус передвижений: в булочную; на Неву за водой, на Литейный — в больницу; на почту, где Рая с января заменила Елену Григорьевну; рынок (редко) за горючим (на хлеб). Самое «населенное» место — рынок и хлебная очередь. Здесь можно с ходу рассортировать людей по группам: «доходяги-дистрофики» с заострившимися носами или просто голодные; есть более-менее нормального вида, но все равно с «печатью» на лице. Но иногда можно было увидеть «особь» весьма благополучного вида, выменивающую на хлеб часики, шубки, кольца, броши. Или: где можно было раздобыть столько жмыха, чтобы продавать его на рынке: и целыми плитками, и наломанный квадратиками, как шоколад. И каждый раз, натыкаясь на рынке на этих людей, вспоминала свою приятельницу Ольгу… Я допускала мысль, что и она где-то здесь придирчиво осматривает старинный сервиз или настенные часы в руках дистрофика и бодрым голосом торгуется, стараясь не продешевить хлеб, полученный ею по незаконной карточке.
И я в своих предположениях на ее счет не ошиблась: мы встретились после войны, она зазвала меня к себе, и первое, что она сделала, — показала вещи, «приобретенные» в блокадное время на рынках…
В довоенном барачном детстве я не удивлялась, когда видела, что ребенок не хочет есть шоколадную конфету — плачет, плюется, а мать его настойчиво хочет скормить ему конфету или яблоко («война» эта происходит в сквере, на скамеечке). Было удивление, но не возмущение с моей стороны, со стороны наблюдателя. Я рассуждала тогда здраво: «Значит, он живет в семье, где достаток, у него, наверно, есть отец… инженер, но никто не виноват, что в моей семье все сложилось иначе…»
Другое дело — в блокадном Ленинграде. Изверг Гитлер держит в кольце блокады город, и всем одинаково трудно… оказывается, не всем одинаково. Почему? И я ненавижу сытых, здоровых людей блокадного Ленинграда — они не могут быть честными, душевными.
Заходила к Рае на почту. После долгого молчания на почте зашипело радио — такой же слабый голос, как у всех блокадников.
Лежим с мамой в холодной постели, одетые в пальто. Я давно сплю полусидя. Если лечь — задыхаюсь. Мама уже видит, как я превозмогаю боль и удушье при дыхании. Когда я затихаю, мама ощупывает меня — это не ласка, а желание убедиться, жива ли я…
Мама на работе ежедневно получает суп из дуранды по крупяным талонам.
Мама рассуждает: «Что было бы с Толей, растущим подростком, если бы он не уехал? Где-то он сейчас? Здесь бы он умер… и наш хлеб съедал бы… Ведь человек растет до 20–25 лет… И ты еще растешь — тебе больше соков надо, чем мне, сорокачетырехлетней».