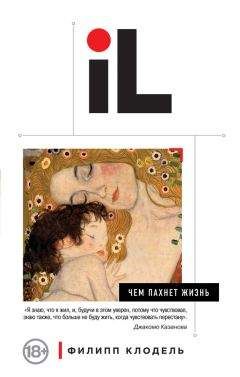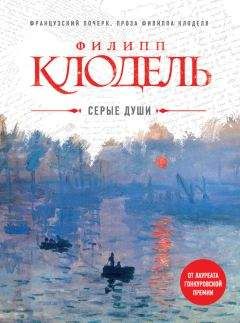Филипп Клодель - Мое имя Бродек
– Нет, этого я знаю, его Бродеком зовут.
Он почти вплотную приблизил свое лицо к моему, и тут я его узнал. Это был студент третьего курса, часто приходивший в библиотеку, как и я. Его имени я не знал. Помнил только, что видел несколько раз, как он листал трактаты по астрономии и долго разглядывал звездные карты.
– Бродек, Бродек… – пробурчал тот, что казался их коноводом. – Имя совсем как у Fremder! Вы только взгляните на нос этого гада! Носище – вот что их всегда выдает! А еще лупоглазость, глаза прямо из башки вылезают, чтобы все заприметить, все заграбастать!
И он продолжил втыкать палку мне в ребра, будто строптивому животному.
– Феликс, брось его! Займемся лучше стариком, он-то точно сволочь, вон его лавка, я ее знаю! Настоящий ворюга, жирует, давая деньги в долг!
Вмешался третий из шайки, еще не подававший голоса:
– Это мой! Сейчас моя очередь! Вы уже каждый двоих прибили!
Он тоже вышел из тени, в которой до сих пор оставался, и я вдруг увидел ребенка лет тринадцати, не больше, наверное, с тонкой свежей кожей, который улыбался как безумный, блестя зубами в темноте.
– Вы только гляньте, малыш Ульрих хочет свою долю угощенья! Нежноват ты еще, братишка, молоко на губах не обсохло!
Старик, казалось, заснул. Его глаза были закрыты. Он уже не говорил. Мальчишка в бешенстве оттолкнул брата, отстранил меня концом своей палки и застыл перед немощным телом, скрючившимся на земле. Наступило долгое молчание. Ночь стала густой, как грязь. В улочку ворвалось дуновение ветра и слегка взметнуло снег. Никто не шевелился. Я убеждал себя, что все это мне снится или что я на сцене театрика «Штюпишпиль», где часто ставили столько гротескных, бессмысленных, а порой и жестоких спектаклей, однако всегда кончавшихся фарсом, как вдруг мальчишка снова оживился. Подняв свою палку над головой и завопив, он обрушил ее на старика. Тот не вскрикнул, но открыл глаза, вытаращил их и задрожал, словно его столкнули в ледяную реку. Мальчишка нанес ему второй удар, в лоб, потом третий, в плечо, потом четвертый, пятый… Он уже не останавливался и все смеялся. Товарищи подбадривали его, хлопая в ладоши и скандируя: «Ой! Ой! Ой! Ой!», чтобы задать ему ритм. Череп старика лопнул, издав сухой треск, как орех, который разбивают между двумя камнями. А мальчишка все лупил и лупил, как сумасшедший, все сильнее и по-прежнему вопя, но постепенно, даже еще не прекратив бить, еще смеясь и глядя на то, что осталось от жертвы, в то время как его товарищи по-прежнему хлопали в ладоши, его заляпанное кровью лицо изменилось. Ужас от содеянного словно проник в его вены, в каждый из его членов, мускулов, нервов, наполнил собою мозг и омыл его от всей его грязи. Удары замедлились, потом прекратились. Он в ужасе уставился на свою окровавленную, с налипшими осколками кости палку и на свои руки, словно они ему не принадлежали. Потом его глаза вернулись к старику, чье лицо не было похоже ни на что, к его закрытым и ужасно распухшим векам, каждое размером с яблоко.
Вдруг мальчишка уронил палку к своим ногам, словно она жгла ему ладони. Его скрутил сильнейший спазм, и он дважды выблевал струю желтой жидкости, а потом убежал, и ночь поглотила его в своем чреве. А его товарищи корчились от смеха, и вожак, его брат, бросил ему вдогонку:
– Отличная работа, малыш Ульрих! Старый хрыч получил свое! Вот ты и стал мужчиной!
Он толкнул ногой тело старика, повалившееся в снег, и преспокойно удалился, держа своего товарища под руку и насвистывая модный романсик.
Я не шелохнулся. Впервые на моих глазах убили человека. Я чувствовал себя пустым. Пустым от всякой мысли. Во рту было полно горькой желчи. Мне не удавалось отвести взгляд от тела старика. Кровь смешивалась со снегом. Как только она достигала земли, хлопья напитывались ее краснотой и рисовали узорчатые лепестки какого-то неведомого цветка. Снова раздавшиеся звуки шагов заставили меня вздрогнуть. Опять ко мне кто-то приближался. Я решил, что вернулись за мной. Чтобы убить.
– Сваливай отсюда, Бродек!
Это был голос того студента, что часами блуждал взглядом по созвездиям и галактикам, изображенным в больших книгах с огромным страницами. Я поднял на него глаза. Он смотрел на меня без ненависти, хотя с некоторым презрением. И говорил спокойно.
– Сваливай отсюда, Бродек! Я не всегда буду рядом, чтобы тебя спасать.
Потом плюнул на землю, повернулся и ушел.
XXVII
На следующий день разнесся слух, что на улицах подобрали шестьдесят семь трупов. Говорили, что полиция не помешала ни одному преступлению, хотя была вполне в состоянии сделать это. Новая манифестация ожидалась сегодня, после полудня. Город был готов вспыхнуть.
Я встал с рассветом после бессонной ночи, во время которой беспрестанно видел лица ребенка-убийцы и его вчерашней жертвы и слышал то вопли одного, то монотонную жалобу другого, а потом глухой звук ударов и более звонкий треск ломавшихся костей. Мое решение было принято. Я увязал в узел свои немногие вещи, отдал ключи от комнаты хозяйке, Фра Хайтерниц, которая взяла их, ничего не сказав и отозвавшись на мои прощальные слова лишь презрительной гнилозубой улыбкой. Она жарила на сковородке лук с салом. Ее закуток был полон жирного дыма, щипавшего глаза. Повесив ключ на гвоздь, она сделала вид, будто я не существую.
Я быстро шагал по улицам. Было немноголюдно. Кое-где еще виднелись следы вчерашнего. Люди с испуганными лицами что-то обсуждали, живо оборачиваясь на малейший шум. Двери некоторых домов были испачканы надписями «Schmutz Fremder», и многие тротуары скрипели под моими шагами из-за битого стекла, заставляя меня вздрагивать.
Я приготовил прощальное письмо для Улли Ретте, на случай, если не найду его в комнате. Я ошибся. Он там был, но такой пьяный, что заснул на своей постели, даже не раздевшись. Он еще держал в руке наполовину полную бутылку, и от него разило табаком, потом и хлебным самогоном. На правом рукаве было большое пятно. Кровь. Я решил, что мой товарищ ранен, но, оголив его руку, понял, что он цел. Вдруг мне стало очень холодно. Я не хотел думать. Принуждал себя не думать ни о чем. Улли спал с открытым ртом. Храпел. Громко. Я вышел из комнаты, оставив прощальное письмо в кармане его рубашки.
Я никогда больше не видел Улли Ретте.
Зачем я написал эту фразу, хотя она не совсем правдива?
Я видел Улли Ретте, или, точнее, мне показалось, что я видел его, один раз. В лагере. На другой стороне. Я хочу сказать, что видел его среди тех, кто нас охранял, а не с нашей, где были только страдание и покорность.
Это случилось морозным утром. Я был Псом Бродеком. Шайдеггер, мой хозяин, вывел меня на прогулку. На мне был ошейник с пристегнутым к нему поводком. Я должен был идти на четвереньках. Должен был нюхать по-собачьи, есть по-собачьи, мочиться по-собачьи. Шайдеггер шел рядом, все такой же невзрачный, как конторщик. В тот день он дошел до санитарного барака и, прежде чем войти туда, крепко привязал поводок к железному кольцу, вделанному в стену. Я свернулся в пыли, положил голову на руки и попытался забыть кусачий холод.
Именно в этот момент мне показалось, будто я вижу Улли Ретте. Я увидел его. Услышал его смех, его особенный смех, весь словно из пронзительных бубенцов и веселых трещоток. Он стоял ко мне спиной. Стоял вместе с двумя другими охранниками всего в нескольких метрах от меня. Все трое пытались согреться, хлопая руками, и Улли – или призрак Улли – рассказывал:
– Да я же вам говорю, настоящий райский уголок, хотя вполне на земле, неподалеку от Шайцерплац! Добрая печка урчит и посапывает, прохладное пиво с белой пеной, а приносит его кругленькая, как сарделька, подавальщица, и при этом вовсе не недотрога, если сунуть лишний грош! Можно там часами курить трубку, мечтать и забыть обо всех этих вшивых тварях, которые портят нам жизнь!
Он закончил свою фразу громким смехом, который остальные подхватили, потом начал оборачиваться, и тут я уткнулся лицом в руки. Не то чтобы я испугался, что он меня узнает, нет. Я сам не хотел его видеть. Не хотел встречаться с ним глазами. А главное, хотел сохранить в глубине души иллюзию, что этот большой, жирный человек, счастливый быть палачом, стоявший совсем рядом со мной, но был отныне в другом, не моем мире, в мире живых, мог и не быть Улли Ретте, моим Улли, вместе с которым мы провели когда-то столько хороших моментов, вместе с которым делили корки хлеба и тарелки картошки, счастливые часы, мечты, бесконечные прогулки под руку. Я предпочел сомнение правде, пусть даже самое крошечное, самое хрупкое, но сомнение. Да, предпочел, поскольку думал, что правда могла меня убить.
Странная штука жизнь. Я хочу сказать, течения жизни, которые скорее влекут нас, нежели мы сами им следуем, и которые после любопытного плавания выносят нас либо на правый, либо на левый берег. Я не знаю, как студент Улли Ретте стал одним из охранников лагеря, то есть деталью огромной, прекрасно смазанной и послушной машины смерти, в которую нас запихнули. Не знаю, как его довели или как он сам докатился до этого. Ведь я же знал Улли, знал, что он и мухи не обидит. Так как же он стал служителем системы, которая перемалывала людей и сводила их к такому состоянию, по сравнению с которым состояние мокрицы было завидным?