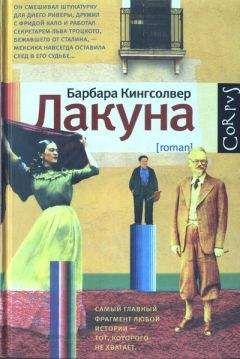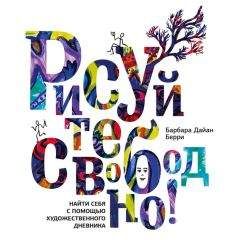Фасолевый лес - Кингсолвер Барбара
– Здрасте, – отозвалась Лу Энн и, кивнув в сторону скамейки, спросила:
– Присядете?
Но миссис Парсонс, поблагодарив, заявила, что они совершают обычный моцион.
– Я вижу, на вас сегодня мой любимый цвет, Эдна, – сказала я.
Это была шутка. Я никогда не видела на ней одежды других цветов, и когда Эдна говорила, что ее цвет – красный, то имела в виду немного не то, что в таких случаях имеют в виду другие люди.
– О, да! Как всегда! – рассмеялась она. – Знаешь, я стала одеваться так в шестнадцать лет. Если уж мне выпало зваться Эдна Мак, то пусть я и выгляжу как мак.
Эдна иногда говорила удивительные вещи. А еще, разговаривая, она смотрела поверх вашей головы, словно там, прямо над вами, висело что-то невероятно интересное.
– Мы все уже не раз про это слышали, – провозгласила миссис Парсонс, ухватив Эдну за локоть костистой клешней. – Пора двигаться дальше. Если я буду стоять слишком долго, мои колени не выдержат.
Они уже немного отошли, но тут миссис Парсонс вдруг остановилась и повернулась к нам.
– Лу Энн! – проговорила она. – Вас утром кто-то разыскивал. Как мне кажется, это был ваш муж.
– Вы хотите сказать, это был Анхель? – спросила Лу Энн и дернулась так резко, что толкнула коляску. Дуайн Рей проснулся и стал вопить.
– Право, не знаю, – ответила Вирджи таким тоном, будто у Лу Энн было с десяток мужей.
– Утром, пока я ходила в прачечную?
– Я не знаю, куда вы ходили, дорогая, но он явился утром.
– И что сказал?
– Что придет потом.
Лу Энн достала Дуайна Рея из коляски и принялась качать, пока он не успокоился.
– Черт! – произнесла она минутой позже, когда дамы вышли за пределы зоны слышимости. – Что все это значит?
– Может быть, он хочет лично вручить тебе чек. А, может, рассчитывает на второй медовый месяц.
– Ну да, конечно, – сказала она, глядя куда-то в дальний угол парка и продолжая качать сына, хотя тот уже притих.
– И как она терпит эту каргу? – спросила я.
– Ты про Валькирию Вирджи? – переспросила Лу Энн, вновь усаживая Дуайна в коляску. – Да она безвредная. Она мне напоминает бабулю Логан. Тот же типаж. Однажды бабушка знакомила меня с какой-то своей кузиной, а на мне была новая юбка-миди, которую я только что сшила. И бабуля Логан говорит: «Это моя внучка Лу Энн. Она не кривоногая, просто у нее такая юбка».
– Ох, Лу Энн, бедняжка.
Та нахмурилась и ладонью потерла плечо – словно тамошние веснушки можно было стряхнуть на землю.
– Я тут утром прочитала в газете, что от солнца бывает рак кожи, – заявила она. – Как он выглядит на ранних стадиях, не знаешь?
– Не знаю. Но вряд ли его подцепишь, посидев на солнце всего разок.
Лу Энн продолжала автоматически покачивать коляску, вычерчивая ее колесами борозды в пыли. Помолчав минуту, она сказала:
– Хотя, если подумать, это совсем другое – говорить такие вещи посторонним. Слушать грубости от родственников как-то привычнее.
Она потерла шею и вновь повернула лицо к солнцу. У нее было красивое лицо – маленькое и круглое. Но внутренним взором я видела, как она, торопясь выйти из дома, мимоходом заглядывает в зеркало и произносит:
– Страшна как смертный грех в летнюю жару.
Наверняка в зеркале она видела, как через плечо ей заглядывает бабуля Логан.
Помолчав немного, я сказала:
– Лу Энн, мне нужно кое-что знать. Для нас с Черепашкой это важно, поэтому скажи, как есть. Если Анхель захочет вернуться, в смысле переехать, чтобы все было как раньше, ты согласишься?
Лу Энн с удивлением посмотрела на меня.
– А что еще мне делать? Он же мой муж.
Я многих вещей не понимаю, но очень хорошо чувствую грубость и хамство. То, что миссис Парсонс сказала про иммигрантов, было ужасно, и по прошествии нескольких недель я все еще продолжала себя чувствовать не в своей тарелке. В конце концов я извинилась за нее перед Эстеваном.
– У нее дурной характер, – сказала я ему. – Если вам не повезло, и такой характер оказался у вашей собаки, вы ее просто отдаете соседу, у которого ферма побольше. А что делать с такими соседями, я не знаю.
Эстеван пожал плечами.
– Я понимаю, – сказал он.
– Она просто не знает, о чем говорит. Она думает, что женщина и ребенок, которых убили, могли быть наркоторговцами или что-то в этом роде.
– Да нет, знает. Именно так думают многие американцы. – Эстеван вдумчиво смотрел на меня. – Вы думаете, если с кем-нибудь случается что-то ужасное, значит, он это заслужил.
Я хотела возразить, но не смогла.
– Наверное, так и есть, – сказала я. – Этим мы себя успокаиваем.
Каждый день в четыре часа Эстеван покидал мастерскую Мэтти и отправлялся на работу. Иногда он спускался со второго этажа пораньше, и тогда мы болтали, пока он ждал автобус. «Поджидаю общественный транспорт», – говорил он.
– Я хочу вам кое в чем признаться, – сказала я однажды. – Вы так замечательно говорите! С тех пор, как мы познакомились, я стала по вечерам читать словарь, и всегда стараюсь вставить в разговор слова вроде «созвездие» и «сценарий».
Эстеван рассмеялся. Все в нем – даже зубы – было настолько совершенным, будто он сошел со страниц книжки про анатомию человека.
– А мне всегда казалось, что это вы интересно обращаетесь со словами, – ответил он. – И вам не нужно искать в словаре мудреных слов. У вас очень поэтичная речь, mi’ija.
– А что такое ми-иха?
– Mi hija, – медленно произнес он.
– «Моя» что?
– Моя дочь, – отозвался Эстеван. – Только по-английски это выглядит не так, как у нас. Мы говорим так друзьям. Вы, например, можете звать меня mi’ijo [7].
– Спасибо вам, конечно, за комплимент, – сказала я. – Но то, что вы сказали – это бред сивой кобылы. Какой я вам поэт? Когда это я говорила что-нибудь поэтическое?
– Бред сивой кобылы – это и есть поэзия, – сказал Эстеван, и глаза его блеснули.
Подошел автобус. Сойдя с тротуара, Эстеван ухватился за поручень и на ходу легко запрыгнул внутрь. Точно так же, подумала я, он садился в автобус в Гватемале и ехал к своим ученикам. Только теперь у него в руках не было ни книжек, ни тетрадок с оценками, зато рукава отглаженной белой рубашки были аккуратно закатаны – он готовился целый вечер драить посуду.
Тем вечером настроение у меня было подавленное. Мэтти, у которой, похоже, никогда не кончались интересные факты, рассказала мне историю Рузвельт-парка. Я-то думала, что он назван в честь одного из президентов, но оказалось, что в честь жены Франклина Рузвельта – Элеоноры. Однажды, путешествуя по стране на собственном поезде, она остановилась здесь и, стоя на крыше грузового вагона, обратилась с речью к местным жителям. Думаю, это был какой-то особенный грузовой вагон, красиво разукрашенный, а не тот, в котором возят скот. Мэтти говорила, что люди сидели на раскладных стульях в этом самом парке и слушали, как она говорит о людях, которым повезло меньше, чем нам.
Сама Мэтти не слышала этой речи, но, все равно, живет она в Тусоне уже порядочно. Тридцать лет тому назад, говорила она, дома вокруг парка принадлежали самым состоятельным горожанам. Сейчас же эти дома демонстрируют признаки дряхлости: петли на дверях поразил артрит, а оконные ставни висят под самыми невероятными углами. Большинство домов поделено надвое, и польза теперь господствует над красотой. Многие дома объединяют сразу несколько функций. Например, дом, в котором живет Ли Синг, это еще и прачечная, и продуктовый магазин. А в доме Мэтти – автомастерская и убежище для иммигрантов.
Постепенно я стала понимать, что это значит. Люди приходили и уходили почти незаметно. И сидели в доме Мэтти тише воды, ниже травы. Но над фреской, которую мы с Лу Энн называли Иисус всемирный, находилось окошко, глядящее в Рузвельт-парк, и в нем порой появлялись лица (иногда это была Эсперанса, иногда другие люди), которые вглядывались в пустоту.