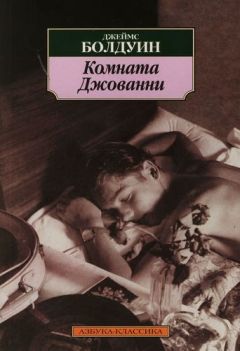Джеймс Болдуин - Комната Джованни
Джованни опять заплакал, на сей раз от ярости.
– И тут я его ударил, но чьи-то руки схватили меня, дальше уж не помню, как получилось, только меня вытолкнули на улицу – я стоял со скомканными франками в руке, и все на меня глазели. Я не знал, что делать – убегать было противно, но ведь если бы еще что-нибудь случилось, явилась бы полиция, Гийом наверняка засадил бы меня в тюрьму. Но не сойти мне с этого места, мы еще с ним встретимся и тогда…
Он запнулся, сел и уставился в стену. Потом повернулся и долго молча смотрел на меня. Через некоторое время он медленно проговорил:
– Если бы тебя здесь не было, мне пришел бы конец.
Я встал.
– Брось говорить глупости, – сказал я, – все не так трагично, – потом, помолчав, добавил: – Какая сволочь этот Гийом! Да все они такие. Но ничего непоправимого с тобой же не стряслось, правда, нет?
– Наверное, от таких несчастий и сдаешь, – сказал Джованни, точно не слышал меня, – остается все меньше сил, чтобы такое выдерживать. Нет, – сказал он, взглянув на меня, – непоправимое случилось со мной много лет назад, и с тех пор жизнь моя была страшной. Но ты ведь не оставишь меня одного, а?
– Конечно, нет, – рассмеялся я и принялся смахивать с одеяла битое стекло.
– Не знаю, что я с собой сделаю, если ты от меня уйдешь.
И тут впервые я почувствовал в его голосе угрозу или, может, мне это почудилось.
– Я так долго жил совсем один, не думаю, что я снова смогу выдержать одиночество.
– Но сейчас-то ты не один, – сказал я.
Его объятий я не смог бы вынести и поэтому поспешно предложил:
– Может, пойдем проветримся? Вырвемся из этой комнаты хоть на минуту!
Я ухмыльнулся и грубовато потрепал его по плечу. Потом мы крепко обнялись, но я сразу же вырвался.
– Я тебе куплю выпить, – сказал я.
– А домой меня приведешь?
– Приведу обязательно.
– Je t'aime, tu sais?[117]
– Je le sais, mon vieux.[118]
Он подошел к раковине, умылся, причесался. Я следил за каждым его движением. Я увидел в зеркале его прекрасное счастливое улыбающееся лицо. И молодое. Я же никогда в жизни не чувствовал себя таким беспомощным и старым, как в эту минуту.
– Ничего, все у нас образуется, – воскликнул он. – N'est-ce pas?[119]
– Конечно, – ответил я.
Он отошел от зеркала, лицо его посерьезнело.
– А знаешь, ведь я понятия не имею, сколько буду искать новую работу. А мы почти без денег. У тебя есть что-нибудь? Сегодня из Нью-Йорка ничего не пришло?
– Ничего не пришло, – спокойно сказал я, – но у меня в кармане есть немного деньжат. – Я вывернул карман и положил деньги на стол. – Вот около четырех тысяч франков.
– А у меня… – он порылся в карманах и вытряхнул несколько помятых бумажек с мелочью.
Потом пожал плечами и улыбнулся мне – улыбка была на редкость подкупающей, беспомощной и вызывающей ответную улыбку.
– Je m'excuse.[120] Я малость спятил.
Он как-то обмяк, собрал деньги в кучу и положил на стол рядом с моими деньгами. Набралось около девяти тысяч франков, три из них мы отложили на потом.
– Да, не густо, – мрачно заметил он, – но завтра нам будет на что поесть.
Мне все-таки не хотелось видеть его озабоченным, это было невыносимо.
– Завтра опять напишу отцу, – сказал я, – навру ему с три короба такого, чтобы поверил, и выжму из него денег.
Я подошел к Джованни, точно меня кто-то подталкивал к нему, положил руки ему на плечи и, заставив себя заглянуть ему в глаза, улыбнулся и в ту же секунду почувствовал, что Иуда и Спаситель нерасторжимо соединились во мне.
– Не бойся, не надо волноваться.
И, стоя рядом с ним, я чувствовал неистребимое желание оградить его от надвигающегося ужаса, и мое уже принятое решение снова выскользнуло из рук. Ни отец, ни Хелла в этот момент не существовали для меня. Единственной реальностью было мое мучительное отчаяние от сознания того, что нет и не будет для меня большей реальности, чем ощущение того, что вся моя жизнь неотвратимо катится под откос.
Ночь была на исходе, и теперь с каждой убегающей секундой сердце все сильнее обливается кровью и щемит, и я понимаю, что чем бы себя ни занял в этом доме, мне не избавиться от боли, такой же неумолимой и острой, как огромный нож, с которым Джованни встретится на рассвете. Мои палачи рядом со мной – вместе со мной слоняются по комнатам, стирают, упаковывают чемоданы, прихлебывают виски из бутылки. Они везде, куда ни глянь. Стены, окна, зеркала, вода, ночная темень – они во всем. Я могу кричать, звать на помощь. Джованни, лежа на тюремном полу, тоже может кричать, но никто ни его, ни меня не услышит. Я могу оправдаться. Джованни тоже пытался оправдаться. Я могу просить о прощении, если бы только точно определить, в чем мое преступление, если бы на свете был кто-нибудь или что-нибудь, кому дано право прощать.
Нет. Если бы я вправду чувствовал себя виноватым, это помогло бы. Но ощущение полной непричастности, в сущности, и означает полную невиновность.
Неважно, как это прозвучит, но мне нужно чистосердечно признаться: я любил Джованни и не думаю, что сумею еще кого-нибудь так полюбить. И эта мысль послужила бы мне великим утешением, если бы я также не знал и того, что как только упадет нож гильотины, никаких утешений Джованни уже не понадобится.
Я хожу из угла в угол по комнатам и думаю о тюрьме. Помню давно, еще до встречи с Джованни, на вечеринке у Жака я встретился с человеком, который половину своей жизни просидел в тюрьме и теперь праздновал свое освобождение. Потом он написал об этом книгу, которая сильно не понравилась тюремному начальству, но получила литературную премию.[121] Жизнь этого человека была кончена. Он взахлеб рассказывал о том, что стоит тебе попасть в тюрьму, как ты практически уже мертв, и смертный приговор – это единственный акт милосердия, который суд может совершить. Помнится, тогда я думал, что, в сущности, он только и делал, что кочевал по тюрьмам, и они заменили ему реальный мир – больше ни о чем он не мог говорить. Все его движения, даже когда прикуривал, были вороваты, и если он пристально на тебя смотрел, чувствовалось, что перед его глазами вырастает тюремная стена. Казалось, если его разрезать, окажется, что внутри он весь пористый, как гриб.
Он нам подробно, с запалом и даже с ностальгией описывал эти окна в решетках, двери в решетках, а в них – глазки для подсматривания, конвоиров, стоящих под лампочками в конце длинных коридоров. В тюрьме три этажа. Все здесь темное и холодное, лишь узкие полоски света, там где стоят конвоиры, прорезают темноту. Здесь даже стены помнят о том, как кулаки заключенных барабанят по металлической обшивке, и этот глухой грохот может возникнуть с минуты на минуту, и каждую минуту здесь можно сойти с ума. Конвоиры ходят, ругаясь себе под нос, меряют шагами коридоры, топают по лестницам вверх и вниз. Они все в черном, с винтовками, вечно всего боятся и вряд ли способны проявить доброту. А на первом этаже, в самом оживленном месте тюрьмы, огромном и холодном, ни днем, ни ночью не прекращается возня: снуют заключенные «на хорошем счету», катят огромные бочки, улещивают конвоиров, чтобы те смотрели сквозь пальцы, как они обмениваются сигаретами, спиртным и спят друг с другом.