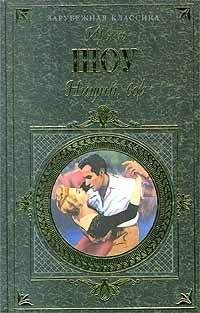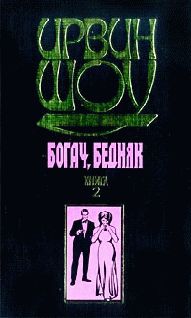Ирвин Шоу - Богач, бедняк. Нищий, вор.
— Подхалим. — И зло передразнила: — «Ничего особенного. Практически всякий, кто умеет читать и писать…»
— Джули!
— Валяй, подлизывайся к богачам! — (Рудольф никогда не видел ее такой бледной и отчужденной.) — Гадкий старик. Он красит волосы. И даже брови! Подумать только, что некоторые готовы на все, лишь бы их покатали на машине.
— Джули, ты несправедлива. — Если бы она знала о Бойлане всю правду, Рудольф еще мог бы понять ее гнев. Но только потому, что он старался быть просто вежливым… — Я зайду к тебе завтра часа в четыре…
— Всю жизнь мечтала! — оборвала его Джули. — Подожди, пока я заведу себе «бьюик», тогда и приходи. — Она наконец нашла ключ и вошла в дом, захлопнув за собой дверь.
Рудольф медленно двинулся обратно. Если это называется любовь, то на черта она нужна? Он сел в машину.
— Очаровательная девушка эта Джули, — сказал Бойлан. — Вы с ней только целуетесь и ничего больше?
— Это мое личное дело, сэр, — ответил Рудольф. Даже сквозь гнев на этого человека он восхищался собой, тем, как холодно и отточенно звучат его слова. Рудольф Джордах никому не позволит обращаться с собой как с плебеем.
— Конечно, — вздохнув, согласился Бойлан. — Но искушение, должно быть, велико. В твоем возрасте… — Он замолчал, словно вспоминая череду девушек, прошедших через его постель. — Кстати, — продолжал он равнодушным, вежливым тоном, — ты получаешь письма от своей сестры?
— Иногда, — настороженно ответил Рудольф.
Гретхен жила в. Нью-Йорке в общежитии Христианской ассоциации молодых женщин и обивала пороги театров, пытаясь устроиться в какую-нибудь труппу. Однако продюсеры не горели желанием нанимать девушек, игравших на школьной сцене роль Розалинды, поэтому работы она до сих пор не нашла, зато уже успела влюбиться в Нью-Йорк. В первом письме она извинялась перед Рудольфом за то, что нехорошо вела себя с ним в день отъезда из Порт-Филипа — она была тогда слишком взвинчена и сама не понимала, что говорит. Но она по-прежнему считала, что ему вредно надолго задерживаться в Порт-Филипе. Семья Джордахов — это трясина, писала она, и тут ничто не может ее разубедить.
— По-видимому, тебе известно, что мы с ней знакомы, — вяло сказал Бойлан.
— Да.
— Она тебе говорила обо мне?
— Не припомню.
— Ах-ха. — Что хотел Бойлан сказать этим междометием, было неясно. — У тебя есть ее адрес? Иногда я бываю в Нью-Йорке и мог бы как-нибудь угостить девочку хорошим ужином.
— К сожалению, адреса у меня нет, — соврал Рудольф. — Она все время переезжает с места на место.
— Понимаю. — Бойлан, конечно, видел его насквозь, но не настаивал. — Когда узнаешь, сообщи, пожалуйста. У меня осталась одна ее вещь, и, может быть, она хочет получить ее обратно.
— Хорошо.
Бойлан свернул на Вандерхоф-стрит и затормозил перед булочной.
— Вот мы и приехали, — сказал он. — Дом честного труженика. — Издевка была очевидна. — Что ж, спокойной ночи, молодой человек. Благодарю за приятный вечер.
— Спокойной ночи. — Рудольф вышел из машины. — Спасибо.
— Да, вот еще что. Твоя сестра говорила мне, что ты заядлый рыболов. У меня в имении отличный ручей, там полно форели. Если хочешь, приходи в любое время.
— Спасибо. — Его подкупают. Но он знал, что поддастся. — Как-нибудь зайду.
— Да, я намерена торговать своим телом. И заявляю об этом во всеуслышание! — сказала Мэри-Джейн Хэккет, приехавшая из штата Кентукки. — На талант спроса уже нет. Им подавай просто тело. Молодое и аппетитное.
Гретхен и Мэри-Джейн Хэккет сидели в узкой, обклеенной старыми афишами приемной Николса, дожидаясь вместе с другими девушками и молодыми людьми приема: прошел слух, будто Байард Николс собирается ставить новую пьесу и ему требуются артисты — четверо мужчин и две женщины.
Мэри-Джейн, высокая стройная девушка с плоской грудью, зарабатывала себе на хлеб, служа манекенщицей. Она сыграла на Бродвее в двух провалившихся пьесах и проработала половину сезона в захудалой труппе, сколоченной на одно лето, — все это давало ей основание держаться с достоинством ветерана сцены. Оглядев кучку актеров, грациозно прислонившихся к афишам некогда поставленных Байардом Николсом пьес, она громко заметила:
— Только посмотри на этих молодых людей. Они едва доходят мне до плеча. Пока не начнут писать пьесы, где героини все три акта стоят на коленях, мне нечего рассчитывать на роль. Боже мой, что стало с американским театром?! Мужчины — лилипуты, а если попадется кто выше пяти футов — непременно гомик.
— Фи, фи, Мэри-Джейн, — сказал высокий молодой человек.
— А когда, интересно, ты в последний раз целовал девушку? — требовательно спросила она.
— В двадцать восьмом году, в честь избрания президентом Герберта Гувера, — не задумываясь, ответил он.
Все в приемной добродушно рассмеялись.
Гретхен нравилась атмосфера этого нового мира, в который она окунулась. Здесь все говорили друг с другом просто, обращались по имени и старались помочь друг другу. Если какая-нибудь девушка слышала, что где-то ищут исполнительницу на оставшуюся незанятой роль, она немедленно сообщала об этом всем своим подругам и даже могла одолжить подходящее для просмотра платье. Гретхен ощущала себя членом большого гостеприимного клуба, право на вход в который давали не происхождение и не деньги, а молодость, честолюбие и вера в талант друг друга.
Теперь она спала до десяти утра, не испытывая угрызений совести. Она ходила в квартиры к молодым неженатым мужчинам и просиживала там до рассвета, репетируя, — ее нисколько не волновало, кто что может подумать. Три раза в неделю посещала балетный класс, чтобы научиться грациозно двигаться на сцене. Ловя на себе взгляды прохожих, Гретхен чувствовала: они уверены, что она и родилась в Нью-Йорке. Ей казалось, что она уже полностью избавилась от былой застенчивости. Она часто ужинала с молодыми актерами и будущими режиссерами и платила за себя сама. Но любовников у нее не было: не все сразу, прежде надо найти работу.
Дверь кабинета открылась, и вышел Байард Николс, а с ним невысокий худощавый человек в бежевой форме капитана авиации.
— Если что-нибудь подвернется, Вилли, — говорил на ходу Николс, — я дам тебе знать. — Голос у него был отрешенный, печальный. Николс помнил только о своих неудачах. Он скользнул пустым взглядом по людям, собравшимся в его приемной.
— Я загляну на следующей неделе и выставлю тебя на обед, — сказал капитан. У него был низкий голос, почти баритон, что никак не вязалось с его хрупкостью и малым ростом. Держался он очень прямо, словно до сих пор оставался курсантом. Но лицо его не было лицом военного. Каштановые волосы слишком длинны и взлохмачены, лоб высокий, массивный, придававший капитану отдаленное сходство с Бетховеном, глаза ярко-голубые.