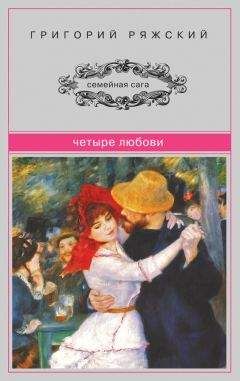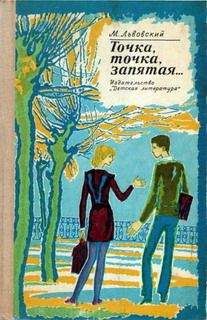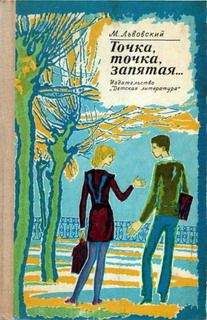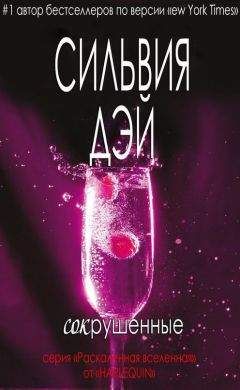Григорий Ряжский - Дивертисмент братьев Лунио
Гирш оставался сидеть, где сидел, и тупо продолжал не верить. Он не привык вообще думать о дочери как о больном организме ни в главном, ни во всех остальных второстепенных смыслах. Всегда юное и стройное Дюкино тело, казалось, останется вечно молодым, а значит, здоровым. Гирш не ведал ничего и не думал про иммунитеты и прочие врачебные изобретения, он видел и знал лишь то, что происходило на его глазах. Дюка не болела почти никогда. Из простуд своих редких выбиралась легко и без последствий. Иногда они шутили с ней на тему болячек разных, так дочь всегда говорила, что пока инфекция в ней начнёт разбираться, куда это её занесло и где тут место, чтобы разогнаться, лекарство успеет догнать её и размолотит насмерть, чтобы не удивлялась больше, чем положено. Однако чаще до лекарств дело вообще не доходило, хватало домашнего вмешательства. Крепкий чай с мёдом и лимоном являлся для маленького организма столь убийственно суровым орудием против основных типов простудных бактерий, что одним-двумя горячими ударами по компактной Дюкиной нутрянке дело обычно и заканчивалось. Ранние типовые болезни, свойственные прочим детским организмам, если не говорить о главной, так же легко миновали Дюку. В общем, всё было в порядке. Месячные у дочки, насколько понимал он сам, начались немногим позднее, чем полагается, но впоследствии обрели регулярность и сделались полноценной принадлежностью взрослой, но просто маленькой женщины. Видела, слышала, осязала и всё прочее – совершенно без какого-либо искажения. Любые патологии, кроме гипофизарной, отсутствовали напрочь, как будто речь шла о совершенно нормальной усреднённой женщине.
Гирш думал иногда, внутренне улыбаясь, что, мол, сам помрёт, а Дюка его жить будет вечно. Жить и не стареть, оставаясь всё той же остановившейся в годах Дюймовочкой. Но только теперь Дюймовочки нет, а сам он есть. Этого не учёл.
Он медленно перевалил вес тела на ноги, поднялся, дошёл до телефонного аппарата и набрал номер роддома. Там спросили, кто интересуется, помолчали, подыскивая слова, но так или иначе новость эту жуткую подтвердили. Внуки у вас, сказали печальным, не соответствующим моменту голосом, мальчишечки, близнецы.
Гирш и не сомневался, что смерть не придуманная. Записку эту мог написать один только Иван, но у того просто не хватило бы ума затеять подобный розыгрыш. Да и вещей его в доме больше не обнаруживалось, исчезли инструменты с рабочего места, ну и прочее, в небольшом, но привычном уже объёме.
Нужно было что-то делать, а что – не знал. Он снова сел на стул. Ужас, раздирающий голову изнутри, и какой-то неопределимой природы поджелудочный страх, соединившись в незнакомый ранее спазм, не давали дышать. Если бы воздух квартиры Лунио проходил через его лёгкие, Григорий Наумович не смог бы плакать. Однако воздух не проходил, а он плакал. Слёзы выливались на щёки, по ним уже спускались тонкими ручейками к бородке и впитывались в неё, накапливаясь в мокрую отвратительную тяжесть. Он смахивал эту тяжесть рукой, невольно, не отдавая себе отчёта, но тяжесть эта никак не убывала, она лишь продолжала разбухать, цепляя по пути всё, что было рядом: сердце, ноги, голову и нескончаемую дрожь в руках.
Через час он собрался, плеснул на лицо холодной воды из крана в очередной попытке унять внутреннюю дрожь, и поехал в роддом, хотя знал, что уже поздно, говорить будет не с кем и смотреть не на кого. Не пустят и не дадут.
Верно, не дали и не пустили, хотя отнеслись с сочувствием. Сказали, завтра всё, папаша, сегодня тут уж никого из персонала.
Он двинул обратно, ему было уже не так важно когда; быть может, даже лучше было бы совсем никогда, но просто надо было что-то делать. Так он чувствовал – идти для него лучше, чем стоять, сидеть или лежать. И неважно, по какому маршруту, от дома или домой. И не думать ни о чём – правильней, чем думать о чём-то. Внутри было пусто, холодно и бездыханно, как у его маленькой мёртвой Дюки в её последнем пристанище на этой несправедливой и жестокой земле, в её ледяном роддомовском хранилище.
Он успел совсем немного отойти по тропинке, к дороге в сторону центра, когда его догнали и тронули за руку. Он обернулся. Это была няня, та, что носила его передачки для Дюки, пока дочь лежала на сохранении. Фрося, кажется. Или как-то так.
– Здравствуйте, Григорий Наумыч, – еле слышно сказала няня, – помните меня?
– Фрося? – спросил он просто так, почти наугад. Это было лучше, чем просто идти, куда шлось, молчать ни про что, снова и снова заставлять себя не поверить в то, что уже произошло давно и непоправимо, и давиться от чудовищного горя. Это отвлекало, хотя бы на время.
– Франя я, – сконфузилась женщина. – Няня тутошняя, роддомовская, забыли меня, что ли? Я это... сказать хотела вам, Григорий Наумыч... – И запнулась. Он молча ждал продолжения, глядя куда-то за её плечо. Франя внутренне собралась и преодолела смущение. – Я сама сегодня, как узнала, чуть с ума не сошла от горя, проплакала почти всю смену, делать ничего не могла. – Глаза нянечки стали медленно намокать, и она шмыгнула носом. – Несчастье какое... Она самая лучшая была из всех, кто при мне лежал у нас и вообще. Ласковая была она, Машенька ваша, умная. И ещё вежливая очень. И я... – она опять замялась, но продолжила, – я не знаю, чего вам сказать, Григорий Наумыч, но только вы знайте, только слово скажите, я всегда вам помогу во всём. Приду, когда надо, если что. Детки уж больно замечательные оба, внуки ваши. Здоровенькие сами, и личики такие аккуратненькие, как слепленные, и маленькие такие, чудо просто одно. И всё есть, всё хорошенькое такое, смотреть хочется, глаз не оторвать: носики, глазки, ротики кривят как большие. – Тут она почувствовала, что сказала что-то не то, про «больших», но Гирш не обратил на это внимания. Слова её и приглушённый звук убаюкивающего голоса как бы сплетались во что-то длинное и протяжное, напоминающее вытянутую шёлковую верёвочку, тягучую, нежную на ощупь и оттого успокаивающую душу. – А Франя продолжала говорить, монотонно вить свою ласковую протяжку и выпускать её наружу. – Они пока на искусственном побудут, на вскармливании, а потом придумается что-то для них своё, отдельное. Врачи придумают, они знают как лучше. Всё ж с самой кафедры ходят, с институтской. Следят. А вам нельзя сейчас переживать так ужасно, вам ведь про маленьких думать надо, да? Им-то жить, ребяткам вашим. Им же забота потребуется ваша и любовь. А вы человек очень хороший, добрый. Я и сама вижу, и Машенька мне про вас рассказывала, всё время папочкой называла или Гиршем своим. Я знаю, что, может, глупое сейчас вам говорю, но вы уж меня простите, пожалуйста, Григорий Наумыч, мне просто Машу так жаль, так жаль. Не могу поверить, глаза закрою, а она как живая там, в глазах, внутри, улыбается так по-хорошему, как будто сама успокаивает кого-то, а не её кто. И хочется, чтобы.... ну-у... вот то, что её нет больше, то бы на деточек её никак не повлияло... А, Григорий Наумыч? Вы как себя чувствуете вообще, плохо вам совсем или более-менее? Хотите, провожу вас до дому, а? Хотите?
И умокла. Вместе с этим смолкла и внезапно разлившаяся в воздухе музыка, обволакивавшая Гирша, успокаивающая голову и медленно, слово за словом, приводящая его сбитый горем разум к прежнему, ещё совсем недавнему. Он вздрогнул.
– А? – уставился он на няню, всматриваясь в её лицо, но оно было словно в мягком фокусе, полуразмытым, неясным из-за не отпускавшей его взгляда пелены, уличной, вечерней и своей собственной, целиком и без спроса накрывшей глаза его, ум, растекающийся в медленный кисель, и всю его больную оболочку. И тут же очнулся уже совсем. – А, нет, не надо, Франя, не стоит, спасибо. Я справлюсь, справлюсь, всё нормально. И не провожайте меня, я доберусь, доберусь... И спасибо вам за Дюку, за помощь вашу за всю. Спасибо...
И дальше пошёл по натоптанной тропинке от страшного этого места, где лежала его маленькая мёртвая девочка. Выйдя на большую дорогу, вспомнил о том, что рано или поздно вспомнилось бы всё равно, само, не могло не вспомниться. Он постоял какое-то время в раздумьях и повернул направо, к почте. Там он заполнил бланк и сунул в окно телеграмму, в Ленинград: «Мария скончалась, похороны днями. Лунио». Там от него потребовали подтверждающую справку, но он так посмотрел, что поверили без неё и отбили так. Он не знал, объявится кто – не объявится, ему было безразлично. После 53-го Григория Емельяновича Маркелова не видал больше никогда и ничего о нём не знал, за исключением разве того, что он жив. А про Юльку, как Гирш себе это представлял, ничего не ведал и отец её, Маркелов. Не говоря о самом Григории Наумовиче, хотя он и был с ней по сию пору неразведённый. Такая была у них в семье конфигурация.
Проводив Григория Наумовича взглядом, Франя вздохнула, подтёрла рукавицей мокрое под глазами и тоже двинулась в сторону дома, думая о том, почему хороших людей Бог порой обижает, хотя они не заслужили, а плохим многое прощает и не призывает их к ответу и небесному суду. Так и теперь, подумалось ей, этим всё с рук сойдёт, институтским, которые с дозой наркоза не угадали, а Машутку Лунио эту из смерти обратно уже не вернуть. Деткам её, малышкам. И Григорий Наумычу – дочку, тоже. Только про какую он Дюку сказал, не было понятно до конца. Или не так услышала, или же не то сказал, про другое что-то, про своё.