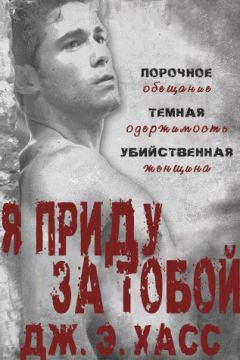Тибор Дери - Воображаемый репортаж об одном американском поп-фестивале
Во имя этой дисциплины супруги не прибегали к насильственным средствам. Ники не изведала ударов — ни палкой, ни рукой, ни тоном: туда, куда ей самой с ее маленьким собачьим умишком было бы не взобраться, ее влекли на свободном поводке любви. С первой минуты она с необычайной переимчивостью и искренним доброхотством относилась к указаниям супругов Анча, даже к таким, исполнить которые было нелегко. Например, требование не просить есть у стола, что на языке людей называлось «клянчить», с точки зрения Ники выглядело, очевидно, потрясающей бессмыслицей. Другая какая-нибудь менее добродушная или более хитрая собака, чем Ники, поняв, что хозяева предпочитают садиться за трапезу без нее, притом едят очень долго и очень помногу, а один из них нет-нет да и чавкнет, ей же с урчащим животом приходится ждать, покуда они возьмут в рот маленькие белые палочки, поднесут к ним желтый огонек и потом еще нудно выпускают изо рта противный дым, — другая какая-нибудь собака, повторяем, наверное, заподозрила бы, что люди съедают самое вкусное, а ей отдают лишь объедки. Впрочем, зачастую как раз самые лакомые куски — кости — попадали в Никину миску, облитую внутри зеленой глазурью. Столь же непонятно было, почему они иногда подолгу гонялись за какой-нибудь жирной, громко кудахчущей от страха курицей и даже ловили ее и уносили, а вот Ники это редкостное удовольствие было запрещено. Совершенной бессмыслицей и произволом выглядело также их твердое распоряжение не бегать и не отправлять естественные надобности в огороде — определенной части зеленого пространства, — тогда как в других местах Ники разрешалось делать все это в свое удовольствие. Однако самым непостижимым для нее среди прочих запретов — отчего поистине мир перевернулся кверху ногами в продолговатой белой голове Ники, пробудив в ней глубокие сомнения в умственных способностях хозяев, — был запрет, который отнял у нее право свободно копошиться в гниющих животных отходах, свежайшем источнике ароматов! Вероятно, этот запрет проистекал из какого-нибудь человеческого суеверия, из какого-то мистического фанатизма, который по временам лишает людей рассудительности и способности к здравым суждениям.
Но молодая сучка обучилась даже этим для трезвого рассудка смехотворным домашним установлениям и свои печальные сомнения выражала лишь тем, что, сев у ног хозяина, устремляла на него взгляд из-под белых бровей и минутами не мигая задумчиво на него смотрела, вовсе не заботясь о том, отвечает ли он на ее взгляд.
Сведя все воедино, мы вправе прийти к заключению, что супруги Анча взяли в свой дом на редкость восприимчивую и порядочную молодую собаку, которая, по-видимому, совсем неплохо чувствует себя в ласковом мире человеческой морали и охотно к нему приноравливается.
* * *
Они перебрались в Пешт в первой половине октября, то есть месяца на три позднее, чем исчислила в оптимистическом своем скептицизме жена инженера. Когда каменщик окончил работу, намного подзапоздав против обещанного, пришлось три недели ожидать маляра, но к тому времени, как он объявился, не доделал своего дела водопроводчик, так что маляр выкрасил только половину квартиры, а потом на долгое время исчез. Стекольщик заменил разбитые стекла, но про два стекла позабыл, два других разбил паркетчик. Электросеть не включила счетчик, газоэксплуатационная контора все никак не могла поставить плиту. В уборной не шла вода. В первую же неделю после переезда на двух окнах оборвались подъемные жалюзи.
Ники, к счастью, не принимавшая участия в этих хлопотах и волнениях, от которых один только человек и способен испытывать удовольствие, быстро освоилась в новой квартире и, несколько медленнее, ошеломленная и заинтересованная, применилась также к городской обстановке. Правда, мягкая воспитательная система хозяев, в общем, легко и без особых испытаний ввела ее в новые условия жизни.
Ники попала в совершенно иной мир. В первые дни она ходила по улицам, робко поджав хвост. Познакомилась и с поводком, приняв его сравнительно легко, — больше того, мы подозреваем, что в великом своем сиротстве она ему даже радовалась: это была как бы прямая физическая связь с хозяевами, то есть, по-видимому, в некотором роде защита. А здесь, судя по всему, она отчаянно нуждалась в защите, большей даже, чем та, какую получала от своих хозяев, и потому старалась сама ее себе обеспечить непрерывным, отчаянным, яростным лаем. Она подбадривала себя лаем, как армия, отправляющаяся на фронт, — музыкой. Чем страшнее ей было, тем свирепее она лаяла. Если мимо, звеня, проносился трамвай, она в испуге нервным прыжком отскакивала к стене дома и, прижавшись к ней, храбро облаивала удалявшуюся громаду. Расставив прямые передние лапы, горизонтально пружиня хвост, дрожа всем своим крошечным телом, она так бешено лаяла, всем своим видом показывая готовность к нападению, даже к преследованию, что натянувшийся поводок едва не душил ее. Она облаивала запряженные лошадьми телеги — телегу отдельно, лошадь отдельно, — но если телега по случайности вдруг останавливалась неподалеку, подкатив к самому тротуару, Ники, не помня себя от страха, едва не опрокидывала хозяйку — с такой силой тянула ее в ближайшую подворотню. «Пугала» она и машины, хотя, как ни странно, боялась их меньше, чем лошадиного транспорта. Лошадей, между прочим, делила по рангу: громадных мекленбургов или орманшагских лошадей, принадлежавших государственным предприятиям, почитала больше, чем какую-нибудь чахлую, изможденную лошаденку частника, перевозившую чью-то дряхлую мебелишку. Она встречала лаем и велосипеды, особенно те, что предупредительно дзинькали; облаивала прохожих, если они шли толпой или разговаривали громко; лаяла на собак, кошек, воробьев; пользуясь известным в мире животных способом самовнушения, она, совсем как шекспировские полководцы перед сражением, облаивала все, чего страшилась. Днем она лаяла на сноп лучей, внезапно брызнувших из отворенного окна, вечером облаивала тени. Ники облаивала всю столицу. Вероятно, она чувствовала себя поначалу как молоденькая крестьянская девушка, впервые попавшая из родной деревни в большой город.
Примерно через неделю после того, как они переехали в Пешт, инженер взял в свои руки воспитание собаки, вернее, приучение ее к новой, городской жизни. Времени у него хватало, он уже не ходил на службу. В середине октября его неожиданно сняли с должности управляющего заводов горного оборудования и нового назначения пока не дали. Распоряжение, явившееся для Анчи такой же неожиданностью, как если бы его покинула жена после двадцати восьми лет счастливой семейной жизни, никак не было объяснено; ходили, правда, неопределенные сплетни на этот счет, однако Анча им веры давать не хотел. Еще в августе он уволил с дисциплинарным взысканием одного служащего, выдвиженца, близко якобы знавшего некоего крупного деятеля: говорили, будто бы он-то и «сковырнул» Анчу, дав ему неблагоприятную характеристику, которая пришлась кстати всегда готовому к услугам приятелю из соответствующего отдела министерства. Стоит ли говорить, что инженера и на сей раз подвело уже описанное нами маниакальное чувство ответственности, тот донкихотский его идеал, в свете которого даже маленькое, с муху, мошенничество выглядит огромным, как слон, преступлением и человек, пойманный на подлости, тотчас именуется подлецом, — вот уж поистине гипербола, достойная всяческого осуждения. Уволенный служащий присвоил всего-навсего четыре тысячи форинтов да на две тысячи украл запасных частей, но Анча в смехотворном своем усердии даже после вмешательства министерства не склонен был замять это комически пустяковое дело, которое любой трезво мыслящий реалист уладил бы одним мановением руки. Непостижимая щепетильность… Не стоит больше тратить и слов на нее.
Отстранение от должности хотя и сильно подкосило Анчу, но все же не сбило с ног, поскольку явно злонамеренным шепоткам он не верил. Инженер искал ошибку в себе и, как это всегда бывает с совестливыми людьми, обнаружил их великое множество. Самоанализом он занимался обычно в обществе собаки во время их долгих прогулок вдвоем по нижней набережной, у самого Дуная. Ни трамвай, ни машины не будоражили здесь нервы Ники, и она могла всласть отдаваться на волю фантазии и мышц, а также заводить полезные знакомства с собаками разных пород и рангов. Правда, набережная была вымощена камнем и, значит, менее удобна для стремительного, пружинистого бега, чем холмы Чобанки, но чуть выше по течению, за церковью, на Пожоньском проспекте, попадались кое-где и пустыри с клочками порыжелой травы, чахлой акацией, мягкой песчаной почвой.
Стоял прекрасный теплый октябрь, ласковый осенний запах воды отмыл пропитанный сажей городской воздух, да и будайские горы, окрашенные багрецом, изредка посылали сюда с того берега пахнувший прелой листвою привет. Вечером, когда загорались фонари, воды Дуная покачивали на себе их отражения лунного цвета, если же подымался ветер, разбивали их на узкие золотые взблески, вольно разбегавшиеся на гребнях легкой зыби между двух берегов. Иногда к их вечерней прогулке присоединялся новый знакомый, новый, конечно, с точки зрения Ники, ибо это был, как мы сейчас увидим, старый, задушевный друг инженера. Исполин чуть ли не двухметрового роста, с круглым черепом, покрытым ежиком никогда не знавших шляпы волос, с толстым мясистым носом и оттопыренными ушами — которыми, к вящей радости детворы и более простодушной части взрослых, умел с удивительной ловкостью двигать взад и вперед, вверх и вниз, как будто располагал какими-то специальными мышцами, — однажды вечером присоединился к инженеру, вышедшему из подъезда на прогулку, и своей внушительной массой, должно быть, испугал собаку; Ники, увидев его, внезапно отскочила назад, попятилась и, следуя известному уже принципу самовнушения, подняла отчаянный лай.
![BlackSpiralDancer - Unwritten [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)