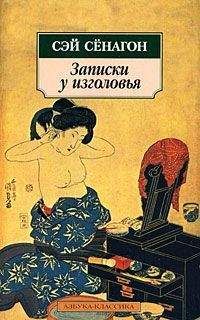Вадим Смоленский - Записки гайдзина
K231 1782 Vienna Canon "Leck mich im Arsch"
Это канон. "K" означает "по Кёхелю". Название переводится на русский как "Лизни меня в жопу". Миди-файл прилагаю.
Потапов.
* * *From [email protected]
To [email protected]
Subject SALE !!!
U.S. KIDS USED CLOTHES !!!
SWEAT ¥ 1.900
TEE SHIRT ¥ 1.500
PARKA ¥ 1.900
OVER ALL ¥ 2.900
PANTS ¥ 1.900
SKIRT ¥ 1.900
CAP ¥ 980
PLUM, Chuo-dori, 1-chome, 5-26, phone 24-1233
REAL AMERICAN SECONDHAND STUFF !!!
DON’T MISS !!!
Экспонат
Первый день седьмого месяца выдался ясным. Восходящее солнце без помех дошло до зенита и ударилось в беспредел. С наслаждением садиста оно водило огнеметом туда-сюда по береговой линии, испепеляя городские улицы, портовые доки, иностранные суда у причалов и стоянки подержанных автомобилей. Морская набережная Фуругаты, по которой мы ехали, готова была расплавиться и дымящейся лавой уползти в соленую воду.
– Пива хочу, – произнес Берлогин. Он изнемогающе пошевелил кожной складкой на затылке и развернул голову вправо. – Купим пива?
Мимо окон проносился океанариум. Там сейчас ползали по бетонным плитам одуревшие котики, и пингвины тихо тосковали по Южному Полюсу. Короедов нервно сморгнул, сильнее сжал руль и нахмурился.
– Если увидим в автомате, то купим, – сказал он. – Специально искать времени нет.
Берлогин помолчал немного, затем продолжил разворот головы и наставил ее на меня. Лицо его расплылось в ласковой улыбке.
– Головка не бо-бо? – спросил он.
– Немножко есть, – ответил я, изобразив веселое подмигивание.
– Задал ты вчера перцу! – Берлогин потерся щетиной о край подголовника. – Всех удивил.
– Чего я задал?
– Не помнишь?
– Нет...
– Оперу ты вчера пел. Прям на улице, посреди ночи. Я думал, стекла в домах полопаются.
– Это уже после текилы или еще после сакэ?
– Совсем в конце. Уже после бильярда.
– А какую оперу? «Хованщину» или «Евгения Онегина»?
– Чего другое спроси. Я в операх не понимаю.
– Слова-то какие были? Если «позор, тоска, о жалкий жребий мой», то это «Евгений Онегин». А если «народ смущать, чтоб много больших бояр побил», то это «Хованщина».
– Ни то, ни другое, – подал голос Короедов. – Я хорошо помню. Слова были: «Отдай мне Эмму, отдай мою голубку».
– Так это «Хованщина».
– А что, большая разница?
– Разница большая. «Евгения Онегина» я пою, когда бываю в лирическом настроении. А «Хованщину» – когда бываю в эпическом. Значит, вчера я в эпическом настроении был.
– Мда, – вздохнул Короедов. – Хорошо тебе там в твоих полях. Ори, не хочу. Меня тут давно бы депортировали.
– И развалили бы весь бизнес, – подхватил Берлогин. – Короедыч, как здорово, что ты оперу не поешь! Пивка еще найди – поставлю тебе памятник.
– Пивко будет там, – веско сказал Короедов. – Пивко, музыка, женщины... Все вам будет.
– Да женщины-то не те, – Берлогин меланхолично поскреб ногтями макушку. – Таких женщин и в Хабаровске навалом. Мне бы гейшу...
– Гейшу... Ты хоть знаешь, что это вообще такое, «гейша»?
– А чего тут знать... Гейша она и есть гейша... Ну, баба, что ли...
– Так и запишем, – сардонически усмехнулся Короедов. – «Гейша» – значит «баба».
– Нет, понятно, что не просто баба. Ну, скажем так, «специальная японская баба».
– Конечно, – кивнул Короедов. – «Гейша» – это специальная японская баба. А «самурай» – специальный японский мужик. Я правильно трактую?
– Правильно, неправильно... Кто тут живет – я или ты?
Короедов не отвечал. Мы стояли на светофоре в ожидании зеленого сигнала, пока стайка девушек гангуро пересекала наш путь, направляясь на пляж. Берлогин напряг мощную шею и наблюдал за ними.
– Ну вот, – сказал он, когда мы снова поехали. – Врут, что они кривоногие. Есть и нормальные. В желтой майке шла ничего...
Короедов вздохнул глубоко-глубоко.
– Ничего, – задумчиво повторил он. – Конечно, не Лайма Вайкуле – но будем снисходительны...
Жизнь Петра Короедова не была пассионарным горением или авантюрным фейерверком. Гениальный художник, благородный жулик или роковой любовник из него не вышли. Престижная стезя япониста, избранная в юности, выкинула странный финт – востребованным оказалось лишь умение обслужить нехитрые торговые переговоры. Теперь Петр Короедов был важным звеном в скупке и переброске через Японское море подержанных тачек. Человек попроще гордился бы таким статусом – как-никак, приплывавшие коммивояжеры не могли и шагу без него ступить, относились с пиететом и честно отстегивали по десять тысяч иен с каждой сделки. Фуругатские автодилеры со своей стороны тоже оказывали знаки уважения и помогали в юридических и бытовых вопросах. Но душа просила вовсе не того. Душа просила прекрасного. Тонко чувствующему человеку было отчаянно тяжело вариться в мире покрышек и запчастей, пить водку с бритоголовыми клиентами, осваивать распальцовку и откликаться на «Короедыча». Спасала лишь мечта о далеком идеале, мысль о высшем и безгрешном существе, трепетное преклонение перед чудом, перед сверкающим эталоном красоты и мудрости. Перед Лаймой Вайкуле.
Когда развалился Советский Союз, Короедов более всего горевал об утрате морального права называть Лайму Вайкуле своей соотечественницей. Потом оказалось, впрочем, что латвийская примадонна продолжает петь по-русски и вообще проводит больше времени в Москве, нежели в Риге. Это Короедова очень приободрило. Он ревниво следил за успехами своей богини, и счастливейшим его днем был день, когда в фуругатском магазине он приобрел компакт-диск Лаймы Вайкуле, записанный и выпущенный в Соединенных Штатах. Тогда ему стало с особой пронзительностью ясно, что оба они – граждане мира. Они оба стирают границы, сближают народы и разносят по планете свет русской культуры. Только каждый из них на свой лад. Два факела, два подвижника, два космополита. Лайма Вайкуле и Петр Короедов. Мечты, мечты, мечты...
Берлогинская лапа потрясла меня за колено.
– Просыпайся, – услышал я. – Приехали.
Мы стояли на обширной, наполовину заполненной автостоянке. Прямо перед нами в полнеба раскинулись зеленые сети гольфового поля. По левую руку от сетей притулился Храм Василия Блаженного – точнее, его уполовиненная копия. От храма тянулся разрисованный под хохлому забор с проходом посередине и красочной вывеской на двух языках:
«РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ ГОРОДА ФУРУГАТА»
– Вперед, – скомандовал Короедов, застегнул пиджак и пошагал к окошку с надписью «Касса». Берлогин двинулся следом, я за ним.
– Ирассяимасэ-э-э!.. – раздалось из окошка.
– О, черт! – Короедов раздосадованно уперся в забор ладонью. – Ритка должна была сидеть, обещала провести... А так платить придется.
– Скажи, что по делу, – посоветовал Берлогин.
– Наивный... Будем час куковать, пока все утрясется и согласуется. Ты думаешь, это человек сидит? Это робот! У нее не мозги, а этот... алгоритм! Тебе охота час сидеть на жаре?.. Ладно, я вас привез, я и платить буду. – Короедов выставил вперед обе ладони, отметая возможные протесты, вытащил кошелек, наклонился к окошку. – Будьте добры три билета.
– С мамонтом или без мамонта?
– Без мамонта.
Контролер на входе оторвал от наших билетов корешки. Мы ступили на длинную, посыпанную гравием и огороженную бамбуковым частоколом дорожку.
– Пиво-то скоро? – спросил Берлогин, нетерпеливо вглядываясь вперед, откуда доносились развеселые звуки «Камаринской».
– Вон табличка, – показал я. – До ресторана «Печка» сто метров. До музея этнографии тоже сто. И до театра «Николай» сто. И до магазина «Сибирь» тоже. А до мамонта – двести.
– Пиво, наверно, через сто.
– Наверно.
По прохождении ста метров «Камаринская» гремела уже в полную силу. Глазам открылась центральная площадь, по периметру которой располагалось все обещанное. В центре площади громоздился круглый помост, плотно окруженный публикой. На помосте лихо отплясывали четыре девки в кокошниках и красных сапогах.
– А Ритка-то вон она, – едко заметил Короедов, тыча пальцем в сторону помоста. – Щеки намазала, не узнаешь...
Берлогин беспокойно оглядывался по сторонам.
– Кажется, нам туда, – сказал я и повел его по направлению к вывеске, сулящей различные напитки. Мы зашли внутрь и остановились перед прилавком.
– Самое дешевое какое? – спросил Берлогин.
– «Серифу», – прочитал я. – Двести иен банка. Только я не слыхал про такое пиво. Черт знает, как это расшифровать. Может, «шериф»?
– Значит, американское. Берем.
Нам выставили две голубые банки с нефтяными вышками на боку. Под вышками было написано: «Шельф. Сахалинское пиво».
– Блин, – вырвалось у меня. – А я думал, «Шериф»...
– Ничего, – сказал Берлогин. – Зато дешево...