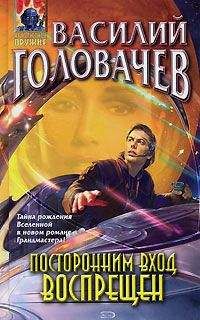Владислав Николаев - Своя ноша
Я припомнила всю его жизнь: сиротское детство, шахта, рабфак, институт, скитание по стране, женитьба на маме; вспомнила все это, а потом Красовскую, запонки, другие подробности, которым раньше не придавала значения, и поняла: Красовская — последняя любовь отца. Мне стало страшно. Я соскочила с кровати и в одной рубашке без стука вбежала в его кабинет.
Он лежал на диване в костюме, ботинках, но галстук был растянут и сбит набок. Рука через распахнутый ворот рубашки шарила по груди. Глаза с белого осунувшегося лица смотрели обреченно.
Я упала перед ним на колени и вскрикнула:
— Папа!
Он разлепил пересохшие губы, сказал:
— Позови маму.
Я сбегала за мамой.
— Плохо, — сказал отец. — Врача.
Минут через двадцать приехала «скорая помощь». Отца положили на носилки и унесли.
А через семь дней его не стало.
За два дня перед смертью он сказал: «Виноват перед Виктором». Вот я исполнила волю отца.
Отец лежал в гробу. Мы вчетвером сидели по бокам у его изголовья. Я заметила: время от времени то мама, то сестренки с каким-то страхом оглядываются назад, на вытянувшуюся за машиной вдоль всей улицы огромную толпу, и я тоже стала оглядываться и тоже чего-то боялась, потом догадалась: боялась в этой толпе увидеть Красовскую.
Господи! Что она с нами сделала! Светка совсем еще ребенок, многого не понимает, но при одном имени Красовской ее всю начинает трясти, как в лихорадке.
Все, все в ней — зло.
Не знаю, где и когда я читала мрачную сказку о том, как один ученый растил свою дочь среди ядовитых цветов и в конце концов она сама пропиталась ядами и стала самым смертоносным существом на свете. Проползет мимо нее ящерица — и тут же забьется в смертельных судорогах. Коснется бабочки — и сейчас же та упадет к ее ногам. От ее дыхания гибли цветы. Какими ядами пропитана Красовская? Будь проклята она! Будь проклята!
Людмила»
Своя ноша
I
Во время войны жила-была на Урале, в медвежьем углу, девушка по имени Маша. В сорок втором она закончила школу и уже на другой день пошла работать. В ту пору почти всем выпадала такая доля: девушкам после школы на работу, а их женихам — воевать. Проводила на фронт и Маша своего суженого, а сама из-за ученической парты пересела за учительский стол, чтобы наставлять уму-разуму малышей-перволеток.
В близкой Машиной родне все мужики уже отвоевались: семидесятилетний дед грел на печи старые раны, полученные в прошлые войны — японскую, германскую и гражданскую; отец не воротился с финской — полег навеки где-то в белые снеги; а недавно пришла весточка и о дяде Саше, мамином брате, — тяжело ранен, лежит на излечении в южном госпитале. Больше в Машиной родне мужиков не было, ежели не считать пятимесячного племянника Санюшку. Но этому до войны еще расти да расти.
Зима на Урале в тот год выдалась небывало лютая. В середине ноября грянули сорокаградусные морозы и держались почти до самой весны, отпуская немного лишь в пору мягких снегопадов. От космической стужи не то что дерево — железо ломалось. Неглубокие речки промерзли до дна, вода, вспучиваясь и застывая лавой, текла поверху, дымясь колючим паром. А на подворье дяди Саши случилось прямо-таки чудо: вывернуло из земли столбы с воротами, которые он поставил прошлым летом, перед самой отправкой на фронт; все в округе почли это за плохую примету — убит хозяин либо пропал без вести, однако весточка пришла не то чтоб хорошая, но и не вовсе плохая — не убит, не пропал без вести, ранен только и скоро, хоть и без ноги, воротится домой.
А сколько дров было сожжено по деревням — страшно молвить! Прежде поленницы вокруг каждой избы вроде вторых стен стояли, и за одну зиму не стало их — корова языком слизала! И дрова-то были не какие-нибудь осиновые или пихтовые, сгорающие как синь-порох без следочка, а все березовые, соковые, заготовленные по весне в пору бурного движения соков по подкорью, — самые что ни на есть жаркие дрова, рассыпающиеся в крупные, нестерпимо яркие белые угли.
Любо в зимних потемках сидеть перед раскрытой печкой и караулить жар, караулить тот единственный момент, когда, закрыв трубу, лишнего градуса не выпустишь во вселенную и в избе угарно не будет.
Не хватило дров — пали под топором заборы, трухлявые баньки на задах, бесхлебные амбарушки, оставшиеся без скотины выморочные хлевы.
Весной метеорологи подсчитали градусы и ахнули: по суммам минусовых температур уральцы за одну зиму пережили две зимы.
Вот в такое злое времечко и началась Машина трудовая деятельность. Сентябрь и октябрь она не без удовольствия провозилась со своими малышами, а в ноябре вдруг оказалась без дела: некого стало учить — ни души в классе. Да что в классе — вся школа будто вымерла. Исправно являлись лишь учителя. Кутаясь в шубы и дуя на озябшие пальцы, час-другой сидели в холодной учительской и тоже разбредались по домам.
Это была единственная школа чуть не на три десятка хуторов и малых деревенек, широко разбросанных по лесам и полям вокруг большой Машиной деревни. В мирное время детей подвозили из глубинки на подводах; теперь же в колхозах каждая кляча была на учете и дети должны были добираться кто как может, в основном на своих двоих. И добирались бы! Но уж больно пообносились за полтора года войны: заплата на заплате, дыра на дыре. А ежели что изнашивалось дотла, замены не было. И голод с каждым днем наваливался все сильнее и сильнее. И, наконец, эти страшные неземные морозы. И десятки мальчишек и девчонок, шурша луковичной шелухой, пурхаясь в прахе, целыми днями сидели на печах, отколупывали с кирпичей известку, жевали ее заместо леденцов, не смея и носа высунуть на улицу.
В начале декабря Машу неожиданно вызвали в райцентр — в райком комсомола.
Как и большинство деревенских, боялась она всяких вызовов в казенные учреждения, еще пуще боялась самих учреждений, оттого всю дорогу тоскливо думала-гадала: кому понадобилась, зачем, ждала наказания или проборки, хотя сама не знала за что. Желание поскорее избавиться от неизвестности и мороз трескучий подгоняли шибче кнута, и тяжелый зимний путь в пятнадцать километров она одолела за три часа с небольшим, перед обедом уже робко скреблась в обметанную по краям изморозью райкомовскую дверь.
В помещении было парно и сумрачно, стекла на окнах заросли в два пальца ворсистым синеватым льдом, под закопченным потолком скудно мерцала засиженная летними мухами маленькая лампочка.
Из-за огромного канцелярского стола навстречу Маше поднялась худая, чернявая, похожая на грача остроносая девушка. Смоляные жесткие волосы подстрижены по-мужски, или, как говорили в те времена, «под Зою»— имелась в виду Зоя Космодемьянская, портреты которой не сходили с газетных полос; одета в ладную гимнастерочку защитного цвета, туго перетянутую в талии широким командирским ремнем, в синюю короткую юбку, на ногах яловые сапожки, на плечи по-комиссарски накинут зеленый бушлат с подогнутыми рукавами… Такая вся утянутая, выпрямленная, устранившая из себя все, что могло напоминать девушку, и Маше близ нее вдруг неловко стало за свои толстые пушистые косы, за морозный румянец в обе щеки, за пуховую шаль, искрящуюся от растаявшего в помещении снега и приспущенную на плечи. Комсомольского секретаря звали Женей. Своей маленькой ручкой она неожиданно крепко тряхнула Машину руку, потом из-под бушлата обняла гостью за плечи и, проведя несколько раз взад-вперед по длинной, вроде коридора, комнате, спросила:
— Ну как?
Маша не знала, о чем ее спрашивают, и наугад ответила:
— Очень плохо, дальше некуда: пусто в классах.
Знаю, — кивнула Женя, продолжая водить Машу по комнате. — Потому тебя и вызвали. Не можем мы бросать детей на произвол судьбы. Какие бы ни жгли морозы, как бы голодно ни было, они должны учиться и учиться. Коли дети сами не идут в школу, пойдем к ним мы. Ясно?
— Не совсем.
— Мы тут решили, а райком партии нас поддержал, создать в глухих глубинках сеть временных школ. Тебя намечено послать… — Женя остановилась подле стола, взяла с него длинный список, поводила близко посаженными, по-птичьи яркими глазами сверху вниз и сказала: — Ага, вот и Скворцова Мария. Тебя, значит, намечено послать в Кокоры. Деревушка домов на тридцать.
Да вокруг еще несколько хуторов. По нашим прикидкам, там учеников двадцать наберется с первого по четвертый класс. Всех и будешь учить.
— Всех? С первого по четвертый?! — оторопела Маша. — Да я только в первом и могу. И то кое-как. Вы, наверно, не знаете, что я без подготовки?
— Знаю, знаю. Мы здесь все про вас знаем. Школа в Кокорах и будет твоей подготовкой. В университеты после войны пойдем.
— Ой, боюсь!
— Вот этого не следует делать — бояться-то. Надо быть смелой. Смелость города берет. В Кокоры отправляйся как можно быстрее. Не сегодня-завтра. Считай: это твое боевое задание. Выполнишь — помогла бить фашистов, не выполнишь — не помогла. Трудно будет, обращайся прямо ко мне…