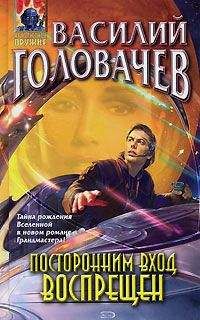Владислав Николаев - Своя ноша
Простите меня! Сейчас, может, вы единственный на свете, к кому я могу относиться с полным доверием. Вы да еще ваш друг Саша Мутовкин.
Кстати, вчера, увидев меня с противоположной стороны улицы, он прямо перед носом машины перебежал дорогу, схватил за руку и, улыбаясь во весь рот, долго тряс ее, будто мы бог весть какие друзья и целых сто лет не виделись. Такой смешной, маленький, квадратный, действительно Куб, уцепился обеими руками за мою дохлую ручонку и чуть не вырвал ее из сустава.
Потом, уже забыв о встрече, я впервые после смерти отца почувствовала: у меня что-то отогрелось, оттаяло в груди, словно солнечный лучик проник туда, я спрашивала себя, откуда бы это, и вспоминала вашего милого Мутовкина.
Статья вызвала переполох не только в нашем доме, но и в институте. Спорили, шумели. Готовилось открытое партийное собрание. Поговаривали: собрание может принять решение считать недействительным защиту диссертации и отозвать ее из Москвы.
Но ни собрания, ни другого какого обсуждения статьи не было: помешал отец. Он сходил к ректору, съездил в геологическое управление, в обком партии, звонил в Москву. О чем уж он везде беседовал — не знаю. Только все двусмысленные разговоры прекратились, а вскоре из Москвы, из высшей аттестационной комиссии, пришла телеграмма. Красовская поздравлялась с утверждением диссертации и присвоением звания кандидата геологоминералогических наук. А несколько позже в газете напечатали информацию о том, что Красовская, Крапивин, Каленов и еще человек семь, совершенно мне неизвестных, за открытие Шамансукского месторождения выдвинуты на соискание Государственной премии.
Городские власти настаивали, чтобы в число соискателей включили отца и начальника геологического управления Русанова, но оба наотрез отказались, заявили: если даже включат помимо их воли, то они откажутся вторично, да еще через центральную печать, и их оставили в покое — побоялись нового скандала.
Словом, вся эта история кончилась для Красовской не только совершенно безболезненно, но и прибавила ей известности:
А для нас…
Но не стану забегать вперед, расскажу по порядку.
Вы ведь, наверно, знаете, какой у нас телефон: если даже кто звонит из-за тридевяти земель, голос гремит как по селектору — во всех комнатах слышно.
На звонок мы с мамой побежали к телефону одновременно, но мама успела первой схватить трубку.
«Да?» — спросила она.
«Алевтина Васильевна, здравствуйте», — узнала я голос Красовской.
«Ах, Танюша, миленькая, здравствуй, — заторопилась мама. — Давненько ты у нас не показывалась. Или, став ученым, носик вскинула немножко?»
Красовская пыталась что-то ответить, но мама своей скороговоркой перебила ее:
«Я шучу, разумеется. Догадываюсь, каково тебе было. Бедненькая! Из-за этой статьи все завистники подняли головы… Сейчас тебе, Танюша, надо отдохнуть. Собирай-ка чемоданы — и на юг, к морю. Враз все плохое вылетит из головы».
«Я и сама подумываю об отдыхе».
«Вот-вот, видишь, какие мы родственные души! На расстоянии чувствуем друг друга».
«Но отдыхать я собираюсь иначе, чем вы советуете. И мне нужна ваша помощь… Алевтина Васильевна, выслушайте внимательно… Передайте, пожалуйста, Глебу Кузьмичу, чтобы он перестал преследовать меня. Приберите, наконец, к рукам своего мужа. Тогда я смогу отдохнуть и в городе. И вам лучше будет».
Это было как удар молнии с ясного неба. Мама перестала соображать.
«Танюша, Танюша, — лепетала она в ужасе. — Что вы такое говорите? Как он вас преследует?»
«Ну, Алевтина Васильевна, — в голосе звучала презрительная усмешка. — Вы не девочка, давно бы могли заметить… С год уже настаивает, чтобы я вышла за него замуж. Смешно слушать: мне двадцать семь, ему — за пятьдесят».
После этих слов мама пришла в себя.
«Татьяна Сергеевна, — выкрикнула она, — как вам не стыдно!»
«Я должна подумать о себе и дочери», — ответила Красовская, и сразу же на весь дом забили отбойные гудки.
Не знаю, как вам передать те чувства, которые охватили меня после всего того, что я услышала. Это был ужас! Ужас перед человеческой низостью. На отца я не обижалась. Мне казалось вполне естественным, что он полюбил Красовскую. Но как она смела предать его? Растоптать! Да еще такими пошлыми словами! По телефону!
Мама тоже негодовала больше на Красовскую, чем на отца.
«Ах, тварь какая! Ах, змея подколодная! — твердила она, выйдя из роли профессорши и став снова той остроязыкой машинисткой, какой, наверно, была до встречи с отцом. — И прежде закрадывались подозрения, но разве я могла им дать волю… Думала: если бы что было между ними, носа бы не посмела показать к нам. А она все время ходила. С дочерью. Для отвода глаз. Нашла дурачков! А Глеб-то, Глеб-то — тоже хорош! Диссертацию ей сделал, отстоял перед газетой, защиту ускорил. А когда не стал нужен — она его фьють, коленком».
Мама совсем разошлась. Глаза разъяренно горели. Сначала бегала по столовой, потом ворвалась в кабинет отца и принялась перетряхивать на письменном столе книги, бумаги, карты, чертежи.
«Ишь, женишок! Отгородился. Главный труд жизни! А сам тут млел, как мальчишка! И поделом тебе! Поделом! Вот придешь, я еще добавлю!»
Прибежали с улицы Руфка и Светка. Я пыталась заставить маму замолчать, но куда там— с еще большим пылом она принялась пересказывать им свой разговор с Красовской. Девчонки хлопали глазами и ничего не понимали. А Светка передернула плечами и сказала:
«Ну и что? Я люблю Татьяну Сергеевну. И хорошо бы жить вместе».
Ах, глупая-глупая Светка.
Я все-таки утащила маму в кухню и с трудом растолковала ей, что девчонкам совсем не полагается знать о взаимоотношениях взрослых. Я предложила даже ничего не говорить отцу.
«Ну уж нет!» — отрезала мама.
Стукнула входная дверь. Мама вылетела в прихожую. Я метнулась следом. Выбежали из своей комнаты девчонки.
Отец снимал пальто, одну руку уже вытащил из рукава, но, увидев всех нас вместе, а маму еще с мстительной ухмылкой на губах, с воинственно воткнутыми в бока руками, приостановился и удивленно спросил:
«Что тут произошло?»
Я крикнула: «Мама!» Но она даже не взглянула на меня.
«Вот то и произошло. Звонила Красовская и просила передать: ты старая развалина, песок сыплется и совершенно ей не нужен».
Отец побледнел. Белым-белым стал. Пальто сползло с плеча на пол.
«Чепуху мелешь», — раздельно и тихо сказал он.
Мама не унималась:
«Так и попросила: прибери мужа к рукам».
Отец шагнул к маме, и я заметила: у него тряслись губы и в уголках на них выступила пена.
«Это что, шантаж? Да? — закричал он каким-то не своим, визгливым голосом. — Шантаж! Шантаж!»
«Глеб! Глеб! Успокойся! — испуганно попятилась мама. — Все правда. Час назад звонила. Передайте Глебу Кузьмичу, чтобы больше не преследовал… Так и сказала. Я ни словечка не присочинила».
Отец прикрыл ладонью глаза и простоял так с минуту. Потом рука упала, хлестнула по бедру. С застывшим взглядом он прошел мимо нас в столовую, где возле маминой кушетки на журнальном столике стоял телефон, и снял трубку.
Мы затаились. Вертушка кружилась с оглушительными щелчками.
«Попросите, пожалуйста, Татьяну Сергеевну», — очень спокойно произнес отец: он звонил, наверное, родителям Красовской.
«Знаете, я пожилой человек, и не надо меня обманывать, — тем же мертвенно-спокойным голосом продолжал отец. — Она дома. Недалеко от телефона. Пусть подойдет. Если не захочет, приведите ее силой. Иначе я вынужден буду приехать к вам сам».
И снова квартиру заполнила тишина.
«Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Будьте любезны, повторите, что вы сегодня сказали моей жене… Ну, ну, не бойтесь. Вы же храбрая женщина. Так… Так… Так… А почему же все это вы не сказали мне в глаза? Ага, значит, боялись. Но боязнь вам совсем не к лицу. Оставайтесь всегда храброй, и вы далеко пойдете. Благодарю».
Отец медленно положил трубку, точно не хотел с ней расставаться, и, глядя поверх наших голов, прошел в кабинет. Тихо-тихо притворил за собой дверь. Потом слышно было, как скрипнули диванные пружины — и все замолкло.
Ночь наступила. А из кабинета — ни звука. Мама на цыпочках подбиралась к двери, прислушивалась и, тяжело вздохнув, возвращалась обратно на кушетку.
Я тоже не могла заснуть. Ворочалась с боку на бок, представляла, как он там лежит на голом диване с открытыми глазами, в костюме, ботинках, туго затянутом галстуке, и мне было жалко его. Жалко-жалко. За все. И за трудную жизнь, и за неудачную любовь, и за нас с Руфкой, за то, что мы ему чужие.
Уж лучше бы он бросил нас, ушел, лишь бы не лежал там один на холодном голом диване.
Я припомнила всю его жизнь: сиротское детство, шахта, рабфак, институт, скитание по стране, женитьба на маме; вспомнила все это, а потом Красовскую, запонки, другие подробности, которым раньше не придавала значения, и поняла: Красовская — последняя любовь отца. Мне стало страшно. Я соскочила с кровати и в одной рубашке без стука вбежала в его кабинет.