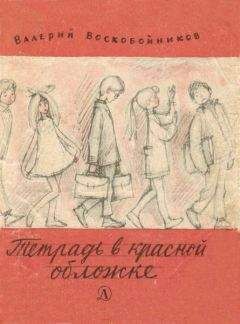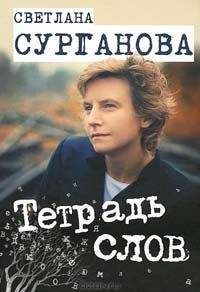Запретная тетрадь - Сеспедес Альба де
Вскоре после этого мы погасили свет. На улице горел фонарь, одинокий фонарь, распространявший вокруг себя мутно-желтоватое свечение: слышались редкие голоса, шаги, потом возвращалась тревожная тишина. Я никак не могла дождаться следующей субботы. Представляла, как вхожу прямо в кабинет директора, он уже ждет меня там. Я видела, как стою перед его столом, серьезная, и говорю ему: «Я честная женщина, думала, что за столько лет вы это поняли. Я люблю своего мужа, никого не любила, кроме него, и никого не буду, кроме него, так будет всегда, мы очень счастливы, наши дети уже выросли. Я не могу приходить по субботам и больше никогда сюда не приду. Вы, конечно, дурно истолковали мое невинное поведение, тешите себя иллюзиями. Я пришла сказать это вам, вот и все». Но мне казалось, что его изумляют те намерения, которые я ему приписываю; он смотрел на меня, словно я страдаю от какого-то психического расстройства, внезапного приступа деменции. Я провела всю ночь в мучительном полусне, так и не сумев развеять ощущение пережитого унижения.
16 марта
Уже несколько дней, как у Риккардо совершенно переменилось настроение: в последние месяцы он все время выглядел неуверенным, недовольным. Теперь же он, казалось, приобрел некую новую силу, новую веру в будущее и в самого себя. По утрам, в ванной, он поет с бритвой в руках, и обиды на Миреллу, кажется, у него не осталось, хотя время от времени он и провоцирует ее своим дерзким поведением. Это все Марина: мне пришлось пообещать ему, что я скоро приглашу ее на обед, как-нибудь в воскресенье, чтобы Микеле с ней познакомился. Правда, я сказала ему, что стоило бы сперва дождаться момента, когда он получит отклик на свой сценарий для кинематографа. Риккардо не одобряет это новое отцовское начинание, он говорит, что мы не должны беспокоиться о будущем, скоро он сможет посылать нам деньги из Аргентины. Микеле очень ласков с Риккардо; по вечерам он садится с ним рядом, и они вместе изучают испанский. Я боюсь, что Микеле утомится, он в последнее время совсем исхудал, сделался бледным, однако сам он выглядит довольным, говорит, что на свете еще много такого, чему он хочет научиться. Они смеются вместе, и в этой их близости Риккардо уже выглядит зрелым мужчиной. Его движения приобрели некую мужественную бесшабашность, от которой я робею. Марина теперь уже звонит то и дело, я научилась мгновенно узнавать ее голос. Едва она позвонит, Риккардо одевается, чтобы куда-то пойти. «Ты слишком мало учишься», – говорю ему я. Он успокаивает меня, отвечает, что учится ровно столько, сколько нужно, что все знает, что это проще простого. Потом обнимает меня и уходит, море по колено. Мне жаль, что это Марина придала ему ту силу, которую мне не удалось дать за столько лет; и я спрашиваю себя, как она – скуповатая на слова и мимику – сумела вселить в него столько счастливой уверенности. Из окна я вижу, как он гонится за трамваем, запрыгивает на бегу на повороте, и мне страшно. Микеле говорит, что это всегда так: единственное, что способно подстегнуть мужчину, – это любовь женщины, желание быть сильным ради нее, чтобы покорить ее.
Я молчу, он возвращается к чтению газеты, слушает радио. Мои мысли становятся легкими, тревожными, оживленными, когда я думаю, что единственное, что придает силу мужчине, – это желание завоевать любовь женщины. Я тоже сажусь рядом с радио, молча, и музыка рождает во мне ощущение приятного общества, я чувствую взгляд, окутывающий меня. «Суббота», – думаю я и закрываю глаза в сладостной пустоте своего сознания. Я избегаю всякой определенной мысли; ведь я уже несколько дней задаюсь вопросом, не придется ли мне покинуть контору, чтобы положить конец волнению, берущему надо мной верх. Но, представляя, что никогда больше не вернусь в те кабинеты, не окажусь среди уже ставших привычными вещей и буду проводить дни напролет здесь, одна, взаперти, я ужасаюсь. Может, достаточно будет не ходить в контору по субботам. Или сходить туда еще всего один раз, чтобы поговорить с ним; он умный мужчина, сразу поймет. Я смогу и дальше работать с ним, я не могу лишиться его дружбы. Как-то недавно вечером, за столом, Риккардо заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть дружбы, что мужчинам нечего сказать женщинам, ведь у них нет общих интересов, кроме разве что нескольких, весьма определенного толка, со смехом добавил он. Мирелла поначалу утверждала обратное, она говорила серьезно, приводила солидные аргументы, такие как воспитание современной женщины, ее новое положение в обществе, – но, услышав, как он смеется этим раздражающим мужским смехом, потеряла над собой контроль. Она сказала, что, возможно, к таким суждениям его подталкивает та категория женщин, с которыми он водит знакомство. Риккардо побледнел и твердым голосом спросил ее: «Что ты хочешь сказать?» Мирелла пожала плечами. Он встал на ноги и угрожающим тоном повторил: «Что ты хочешь сказать?» Мне пришлось вмешаться, совсем как в то время, когда они были маленькими, но как и тогда, мне показалось, что из них двоих сильнее Мирелла; и уже только за это мне хотелось ее ударить.
18 марта
Сегодня утром наконец позвонила Клара. Трубку сняла я, и Микеле, едва только понял, что я говорю с ней, немедленно подбежал ко мне и еле дал мне попрощаться с Кларой, все пытался отобрать аппарат. Она сказала, что прочла сценарий и хочет поговорить о нем с Микеле. Потом спросила, когда он может прийти к ней, и тот, хоть и был в одном халате, ответил: «Да хоть сейчас». Они договорились встретиться после обеда. Потом я спросила его, что сказала Клара насчет сценария, а он только пробормотал нечто неопределенное; Микеле и думать об этом забыл, так у него дух захватило от волнения, вызванного звонком. Он внезапно приуныл, сказал, раз Клара ничего ему об этом не сказала, видно, сценарий ей не понравился, и мне пришлось подбодрить его. Я заметила, что, напротив, будь это так, она бы предпочла сказать ему об этом по телефону, так гораздо проще, а рукопись отправила бы ему обратно почтой с письмом. Он как будто воспрял духом, но позже внезапно сорвался на Риккардо, который слишком задержался в ванной комнате – и к тому же пел все это время, так что Микеле в конце концов не выдержал. Вскоре Риккардо вышел – причесанный, благоухающий, совершенно спокойный; отец хотел отругать его, но я ему помешала, сказав, что не желаю слышать ссор в воскресный день. Риккардо был так рад, что идет на обед в гости к Марине, что даже забыл со мной попрощаться: я хотела отдать пачку сигарет, которую ему купила, но его уже и след простыл. В пустынной комнате сына остался только беспорядок. Микеле вышел сразу после обеда, едва сказав: «До свидания, я пошел», и обнял меня так поспешно, словно боялся опоздать на поезд.
В доме сделалось очень тихо. Мирелла была у себя в комнате, занималась. Я пошла проверить, там ли она, закрыта ли у нее дверь, и помчалась к телефону. «Ну вот, – торжественно думала я, – теперь и мне можно насладиться свободным днем». Затем, у телефона, я замешкалась, оробела. «Позвонить ему совершенно естественно, – говорила я себе, – я столько раз это делала, никто ничего не заподозрит». Но я уже не знаю, как называть его, когда думаю о нем: подумаю «господин директор» – и мне кажется, будто я имею в виду кого-то, с кем совсем недавно еще была знакома, а теперь он исчез из перечня людей, которых я знаю. С другой стороны, едва я пытаюсь произнести его имя, Гвидо, мне кажется, будто это имя никому не принадлежит, будто я сама его выдумала, и именно та тайна, которую оно в себе несет, приводит меня в ужас. Телефон безмолвно стоял предо мной. Я вспомнила, что всякий раз, когда мне нужно было позвонить ему домой, я ощущала непреодолимое смущение – наверное, из-за незнакомых голосов, отвечавших мне, шагов, отзвуки которых я слышала в неизвестном и недоступном для меня мире. Я уверена, что сегодня он дома один: видела у него на столе билеты в театр, места в ложе, а он туда никогда не ходит, я знаю. Мне бы хотелось, чтобы для звонка была причина, такой повод, который не выглядел бы несостоятельным. «Что я ему скажу?» – думала я. И все-таки мне нужно было с ним поговорить, это было сильнее меня. Вчера после обеда мы долго сидели в конторе наедине и готовы были с минуты на минуту сказать друг другу что-то важное, срочное, что давило, тяготило нас. Вместо этого, пока мы пребывали в уверенности, что разговор вот-вот состоится, все время утекло, и мы не произнесли ни единого слова, не имеющего отношения к работе. В конце концов это изматывающее ожидание вызвало что-то вроде легкого раздражения. До того мгновения, когда он проводил меня до двери, мы оба ждали, что кто-то заговорит первым. Он спросил меня, чем я сегодня занята, и уточнил, что сам он свободен, что останется дома. Затем, прощаясь, надолго задержал мою руку, я побледнела, испугалась, что он что-то скажет, и, хотя страстно желала этого, быстро сбежала по лестнице.