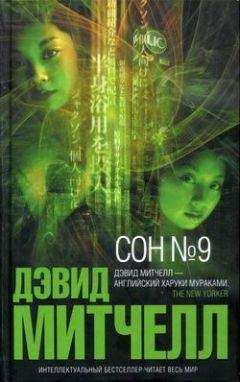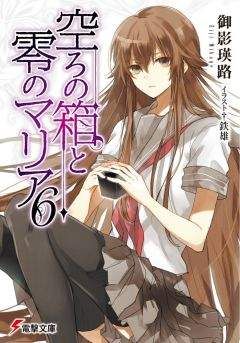Сон № 9 - Митчелл Дэвид
Мириам обдумывает ответ:
– В вашем случае, господин Даймон, – слепотой.
Даймон прикладывает ладони к сердцу, будто хочет остановить кровотечение:
– О Мириам! Где твое сострадание? Мириам любит кормить уток, Миякэ. По слухам, к водоплавающим она относится с большим участием, чем к своим любовникам.
Мириам чуть улыбается:
– По слухам, водоплавающие внушают больше доверия.
– Внушают, говоришь? Или выпрашивают его? Не важно. Но согласись, мы с Миякэ – самые счастливые мужчины в Токио.
Она смотрит на меня. Я отвожу взгляд.
Интересно, как ее зовут по-настоящему?
– Лишь вам самим известно, насколько вы счастливы, – говорит она. – Это все, господин Даймон?
– Нет, Мириам, не все. Я хочу травки. Той самой, кармической смеси. А как тебе известно, после травки меня всегда пробивает на жрачку, так что через полчасика принеси нам чего-нибудь поклевать.
За ширмой-фусума скрывается выход на балкон. Токио вздымается со дна ночи. Всего месяц назад я помогал двоюродному брату чинить ротоватор на чайной плантации дядюшки Апельсина. А теперь – только посмотрите. Из банки «КИРИН ЛАГЕР» шестиэтажной высоты льется одуванчиково-желтая неоновая струя. За темным озером Императорского дворца на вершине «Паноптикума» мигают заградительные сигнальные огни. Мерцают Альтаир и Вега, каждая на своей стороне Млечного пути. Шум транспорта стихает. Бархотка перегибается через перила.
– Какой же он огромный, – говорит она сама себе.
Жаркий ветерок треплет ей волосы. Ее тело сплошь состоит из изгибов, которые я ощущаю, даже не прикасаясь к ней.
– Смею сказать, – говорит Даймон, друг, который преподносит мне все это на блюдечке, – что я свернул самый великолепный косячок по эту сторону борделей Боготы.
– Откуда ты знаешь? – Кофе наклоняется, подносит к самокрутке зажигалку.
– У меня их с десяток наберется.
Он сбрасывает с плеч пиджак, швыряет его в комнату. На футболке надпись: «Мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, какие мы есть»[63]. Где-то я это уже слышал.
Бархотка свешивается ниже:
– Это острова или корабли? Там, где кольцо из огней.
Даймон вглядывается за перила:
– Отвоеванная земля. Новый аэропорт.
Кофе смотрит на огоньки:
– А давайте махнем туда, проверим, как быстро ездит твой «порш».
– А давайте не поедем. – Даймон раскуривает самокрутку, глубоко затягивается и медленно выдыхает «Ааааааааа».
Кофе опускается на колени, и Даймон подносит самокрутку к ее губам. Я кошусь на Бархотку и понимаю, что лучше забыть суровую нотацию дядюшки Толстосума о наркотиках и о Токио. Кофе выпячивает губы трубочкой и, как дракон, выпускает струйки дыма из ноздрей.
– А я уже говорил, что это историческая зажигалка? – Даймон задумчиво глядит на пламя. – Она принадлежала генералу Дугласу Макартуру[64], в оккупацию.
– Ну, раз говоришь, типа, так оно и есть, – недоверчиво фыркает Кофе.
– Да, говорю, но это не важно. Лучше принеси мне дзабутон[65], моя кофейносливочномедоваякиска, а когда твои легкие напитаются этой прелестью, мы поедем на Огненную Землю и заплодим всю Патагонию…
Пока Кофе несет подушку из комнаты, мобильник у нее в сумочке вызванивает «Лунную сонату». Даймон тяжело вздыхает:
– Вот достал! – и передает косячок мне.
Я отдаю его Бархотке. Даймон отвечает на звонок, вполне сносно подражая наследному принцу:
– Приветствую вас в этот прекрасный вечер.
Кофе ойкает и бросается к нему:
– Отдай!
Даймон валит ее на пол и зажимает между коленями. Она извивается и хихикает.
– Нет, простите великодушно, но я не могу передать ей трубку. Ее бойфренд? В самом деле? Это она вам так сказала? Какой ужас. Видите ли, сегодня вечером ее трахаю я, а ты, долбозвон, обойдешься порнухой из видака. Но сначала послушай внимательно: вот как звучит твоя смерть. – И он швыряет телефон с балкона.
Хихиканье Кофе обрывается. Даймон улыбается, как укуренная жаба.
– Ты выбросил мой мобильник с балкона!
Даймон заливисто смеется:
– Ага, знаю. Я выбросил твой мобильник с балкона.
– А вдруг он упадет кому-нибудь на голову?
– Что ж, ученые предупреждают, что мобильные телефоны могут быть опасны для мозгов.
– Но это же мой мобильник!
– Я куплю тебе новый. Я куплю тебе десять новых.
Кофе взвешивает все за и против.
– Самой последней модели?
Даймон хватает дзабутон, ложится на спину и изображает гангстера:
– Я куплю тебе целый завод, милашка моя.
Кофе дуется, как маленькая, и подносит к уху бокал с шампанским:
– Я слышу пузырьки.
Бархотка берет меня за мочки, запечатывает мой рот своими губами, и дым марихуаны стремительно наполняет мне легкие. Ворованный шоколад, липкий и мягкий.
– О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, – тянет Даймон. – Эй, вы, займитесь-ка этим в комнате. Похоже, что юный выскочка снова обставил и меня, и мою новобрачную.
Открываю глаза, кашляю, втягиваю воздух.
Бархотка толкает меня в грудь, и я ухожу с балкона.
– Садись там, – говорит она, указывая на дальний край низенького стола.
Пьяный монах – что кобель в рясе. Ее предплечья блестят от пота. Она задувает свечу. Мы по очереди затягиваемся косячком, не говоря ни слова. Иногда наши пальцы соприкасаются. От нее словно бы исходит электрический ток. Биоборг. Я различаю ее силуэт в зареве ночного города, притушенном бумажной ширмой. Она старается не дотрагиваться до меня, и ее поведение служит сигналом, чтобы я не прикасался к ней, пока она этого не позволит. Яркий кончик самокрутки путешествует сквозь полумрак. Иногда я – это я, иногда – не совсем. Жемчуг, лунный камень, зубная эмаль. Время и пространство рассогласованно исследуют мои члены. Я, будто составляя фоторобот, проецирую на мрак ее грудь, волосы, лицо. Если я вдруг чихну, Годзилла просто взорвется у меня в трусах.
– Ты давно травку куришь?
Ее слова будто извивы дыма.
– Да, с двадцати лет.
Консоль, черная как смоль, кукла-кокэси – прикольный тролль, поникшая хризантема в вазе.
– А сколько тебе лет, роуди?
Плеск и блеск волос.
– Двадцать три. А тебе?
Жгучий шквал снежинок.
– Сегодня мне миллион.
Игривый визг Кофе, «гррр-р-р-р-р-р-р» Даймона, и мы с Бархоткой хохочем так, что рискуем сломать себе ребра, хотя при этом не издаем ни звука. Потом я забываю, почему смеюсь, и снова сажусь прямо.
– Держи руки на столе, – строго предупреждает она. – Терпеть не могу парней, которые лезут, куда не надо.
После пары неудачных попыток наши губы встречаются, и мы сливаемся в поцелуе на девять дней и девять ночей.
Фусума сдвигается. Мы с Бархоткой отшатываемся. На пороге в лунном свете стоит Даймон с обнаженным торсом. На груди помадой нарисовано нечто вроде вампирической крольчихи Миффи[66]. Соски изображают ее зрачки, горящие жаждой крови.
– Миякэ! Ну как, торчок или стояк? Еще не хочешь поменяться?
Сёдзи[67], отделяющие комнату от внешнего коридора, раздвигаются. У входа стоит Мириам, держа в руках поднос с какими-то клейкими перламутровыми крупинками, кубиками арбуза и очищенными личи[68]. На ее лице мелькают потрясение, гнев и ненависть, но тут же скрываются под маской профессионального безразличия.
– Мириам! Ты принесла нам поклевать! Ого, тут даже икра! Знаешь, Миякэ, одно из ее самых ценных качеств – это умение почувствовать момент.
Она снимает гэта, входит и ставит поднос на стол:
– Прошу прощения.
– О Мириам, мое прощение тебе ни к чему, ведь у тебя такие могущественные и влиятельные покровители! Они о тебе позаботятся.
Появляется встрепанная Кофе, приводит в порядок одежду, стараясь не завалить фусума. Замечает Мириам. Чувствуется, что она привыкла командовать прислугой.
– Проводи нас в дамскую комнату.