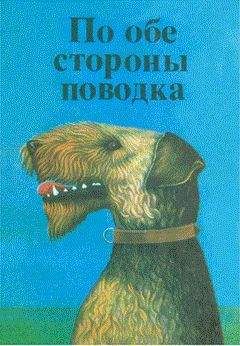Михаил Латышев - Мышонок
— Неправда, — холодно сказал он мужчине, — я знаю, зачем вы пришли. Только что она призналась мне во всем. Значит, не шутила… Значит, на самом деле…
Он заплакал. Мужчина, не спрашивая разрешения, закурил. Пальцы мужчины нервно подрагивали. С трудом успокоившись, он попросил у мужчины папиросу, и уже спокойно рассказал где, когда и как познакомился с женой, про брата ее подавно приехавшего рассказал, про то упомянул, что не верит, что она могла расстреливать, она же детей очень любит, к Новому году ей в месткоме поручают подарки готовить детям, собак она тоже любит — подобрала одну, рыжую, с перебитой лапой, и та теперь возле будки ее живет на переезде.
— Что мне делать? Что мне делать? — тоскливо спрашивал он мужчину, когда тот собрался уходить.
Видно было, что мужчина очень жалеет его, прекрасно понимает его боль и тоску, но чем помочь — не знает. Не пустые же слова говорить, не утешать банально, что пройдет, дескать, все, утихнет с годами боль, перемелется в жерновах дней, и мука, как говорится, будет.
— Я к вам вечером зайду — сказал мужчина. — Неофициально. Можно?
Он безразлично кивнул.
— Вы только… — сказал мужчина. — Понимаете о чем я? Честное слово, при любых обстоятельствах можно жить.
— Да, — сказал он, — да… Войну перенес и это перенесу… Постараюсь…
6
В одноэтажной деревянной гостинице было сыро. Возле единственного умывальника по утрам выстраивалась очередь. Обнаженные до пояса мужчины выкуривали здесь первую папиросу, перебрасывались первыми за день словами. В компании быстрей улетучивался сон. Андрею Егоровичу гостиница не нравилась. Он никогда не гонялся за особыми удобствами, в одиноких своих странствиях привык спать где придется, и не отсутствие удобств повлияло на его отношение к гостинице — причины были глубже: Кубасову предложили уйти на пенсию. Предложили вежливо, однако яснее ясного дав понять — на другой работе он больше пользы принесет. Он должен был довести до конца начатое дело и после этого его ждало безделие. Почему-то Андрей Егорович был уверен, что в другом месте будет работать не с таким напряжением, не выкладываясь до конца, как привык. Невеселым поэтому было его настроение. Оно и повлияло на отношение к гостинице. И, может быть, именно поэтому возвращаться в гостиницу после разговора с Евстигнеевым не хотелось. В деревеньку, где скрывался Левашов, Андрей Егорович собирался ехать через полтора часа, и эти полтора часа он проблуждал по неудачно спланированному поселку, большинство жителей которого работали на станции и в депо.
Близкая зима тяжелой синевой пропитала голые деревья возле гостиницы, заборы, мимо которых шел Андрей Егорович, булыжники, которыми была вымощена небольшая площадь в центре поселка, лес вдали, низкие облака над поселком.
И эта же тяжелая синева оставила свой след на красных стволах высоких сосен, на побуревшей траве на обочине, хмуро разлилась по лужам, там и тут разбросанным по дороге, которой ехал Кубасов в подпрыгивающем на ухабах «газике». Шофер ему попался говорливый, и Андрею Егоровичу поневоле пришлось поддерживать беседу о рыбалке, к которой он был безразличен, и о телепатии, к которой испытывал не больший интерес, но которыми зато интересовался шофер. Бесцельная эта болтовня затушевала мрачные мысли Кубасова: об арестованной в середине дня Абакумовой, о ее муже, о Левашове. Иногда, правда, шофер замолкал, и тогда Андрей Егорович прикрывал глаза, откидывал голову назад и, покусывая в волнении губы, пытался представить, что скажет Левашову, что тот ему ответит, как поедут они этой же дорогой назад, сидя рядом на задних сидениях «газика», а не на переднем, как сидел сейчас Кубасов.
В поселке ему нарисовали план деревеньки, крестиком отметили нужную ему избу, предложили выделить сопровождающего, но Андрею Егоровичу важно было самому лично предстать перед Левашовым, а что касается помощи в трудную минуту… Шофер поможет. Не зря же носит звание сержанта милиции, надо будет — поможет. Однако почему-то Кубасов на сто процентов был уверен, что справится один.
Узко сумерки выглядывали из-за леса, когда они приехали в деревеньку. Машину оставили на околице. У крайней избы паслась облезлая серая коза, выискивая в сухой траве последние зеленые травинки. За ней присматривала одетая в черную фуфайку старуха.
— Извините, — сказал, поздоровавшись, Кубасов, — не подскажете, где изба Евстигнеевых?
— А чего не сказать? Скажу… Вон дымок вьется, видите? Следующая изба и есть Евстигнеевых. Только их ведь никого нет.
— Знаю, — сказал Кубасов.
— А-а-а, — протянула старуха. — Не к ним, значит. К этому, значит, блаженному. Дома он. Только что из леса пришел, видела.
Они зашагали дальше.
— Извините, — кашлянул шофер, — не знаю вашего звания… Мне как? С вами идти?
— Да нет, пожалуй, на улице оставайся. Но будь начеку.
Андрей Егорович толкнул покосившуюся калитку. Она скрипнула, и сразу же скрипнула дверь сарая, стоявшего слева от избы. Заросший бородой мужчина с улыбкой пошел навстречу Кубасову:
— Гости… Заходите, заходите… И вы заходите, нечего на улице торчать.
Левашов обошел Андрея Егоровича и почти насильно втащил шофера во двор. Он все время улыбался. Он искренне радовался гостям. Кубасов, не до конца осознавший, что перед ним сумасшедший, растерянно смотрел на Левашова.
— Зачем пришли? — спросил Левашов. — Посмотреть на мою работу? Уже две тысячи четыреста шестьдесят семь мышей уничтожил.
Он внезапно сорвался с места и бросился к сараю, из которого недавно вышел, приветливо позвал за собою Андрея Егоровича и шофера:
— Идите сюда. Вон сколько их. Видите?
Нестерпимая вонь ударила в нос. Темно-серая кучка высилась у противоположной стены. Казалось, это лежали какие-то камешки, и если бы несколько оскалившихся от боли мышей не валялись почти у самых ног Андрея Егоровича, он бы так и посчитал: какие-то камешки свалены непонятно зачем у стены сарая.
— Мне медаль не полагается? — обратился к шоферу Левашов. — Замолвь перед начальником слово, я — молодец, хорошо поработал.
— Левашов, — жестко сказал Андрей Егорович, — хватит придуриваться. Хватит!
Глаза Левашова только на мгновение стали серьезными, только на мгновение в них появилось что-то осмысленное, а потом он снова заулыбался:
— Кто это Левашов? Я знал одного гада, носил он такую фамилию. Когда нас замуровывали в подвале, он тоже там был. Ох, попадись он мне!
— Ты — Левашов, ты! — не сдержавшись, закричал Андрей Егорович.
— Ну чего кричишь? — с бессмысленной рассудительностью посмотрел на него Левашов. — Чего? Я обидеться могу. Я вас в гости не звал. Пришли смотреть на мою работу, смотрите.
— На месте бы… На месте бы, будь моя воля… — прошептал Андрей Егорович.
— Я только что из леса, — сообщил шоферу Левашов. — Там красиво.
Он прищурил глаза и восторженно покрутил головой.
— Сволочь… Сволочь… — Андрей Егорович едва сдержался, чтобы не ударить Левашова, а тот пожаловался шоферу, тыча грязным пальцем в Кубасова:
— Боюсь… Плохой человек…
Через мгновение он панически орал, прячась за спиной шофера:
— Я узнал! Он замуровывал! Он!
Не стой рядом шофер, Андрей Егорович, наверное, заплакал бы от великой несправедливости жизни — тот, кто столько страданий принес, испытать страдание сам уже не может, никогда уже ему не станет по-настоящему больно. Вот и сейчас, только что панически оравший, он стал рассказывать шоферу, как прекрасен осенний лес, и все пытался, цепко ухватив шофера за локоть, повести того в лес, показать, где сегодня поймал четырех мышей.
Когда они привели Левашова к машине, тот с радостью забрался в нее, дружески подмигнув Кубасову:
— К Тонечке поедем, да?
— К Тонечке.
— А чего она не приехала, не знаешь? Должна была.
— Арестована твоя Тонечка. Как и ты. Только вышла из дома, ее и взяли.
— Да ладно шутить! — засмеялся Левашов и снова подмигнул Кубасову: — У нее муж лопух какой-то. Не подозревает, зачем она ездит ко мне. Ей-богу, лопух!
Андрей Егорович, не сдержавшись, со всей силы пнул Левашова в бок. Тот заплакал, по-детски размазывая слезы по щекам — грязными ладонями, громко всхлипывая.
Пересиливая себя, Кубасов сидел рядом с Левашовым. Казалось бы, он мог радоваться, однако слова, которые он так старательно готовил, чтобы сказать их Левашову, были бесполезными — ни раскаяния, ни страха, ни других осмысленных чувств Левашов не испытывал. От этого все тяжелее и тоскливее становилось Андрею Егоровичу. Он готов был посчитать, что в основе своей жизнь несправедливо устроена, раз сидящий рядом с ним бородач, снова радостно пытающийся заговорить с шофером, самым везучим оказался из многих-многих людей, кого знал в своей жизни Кубасов: из всех передряг выбрался живым и не покалеченным. Но настоящую любовь он знал? Мог знать, однако сам сжег ее в пылающей избе. Что останется после него — смерти? На место умерших пришли новые люди, и новыми заботами и новым счастьем расцвела жизнь, устремляясь в тревожные небесные дали, откуда и сейчас, пока они ехали лесом, смотрели на них ранние звезды, то выглядывая из-за разлапистых сосен, то скрываясь за ними. И даже в обидной несправедливости жизни была своя справедливость. В чем, правда, она заключалась, Андрей Егорович пока не знал…