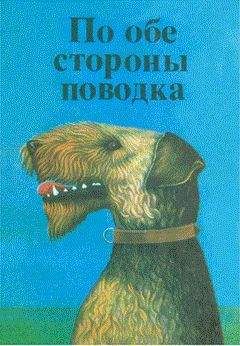Михаил Латышев - Мышонок
Поезд изогнулся дугой, следуя за изгибом рельсов, и он еще минут пять мог видеть — сбоку — толстую женщину с желтым флажком в руке. Именно это прежде всего бросилось ему в глаза: желтый флажок и тонькина толщина — не такой она была раньше, совсем, совсем не такой!
— Сколько стоим? — спросил он у проводницы.
— Двенадцать минут.
— Двенадцать… — пожевал он губы. — Жалко, не час.
— Много хочешь, — засмеялась проводница, — что в этой дыре делать целый час?
— У меня дело есть.
Он спустился на перрон, несколько раз прошелся взад-вперед вдоль вагона, в котором ехал, и даже со стороны видно было: человек чем-то сильно озабочен. Так оно и было. Он решал: сойти или не сойти на этой станции? Напомнить Тоньке о себе или не стоит? Затем, повинуясь скорее невнятным внутренним порывам, чем голосу разума, он ворвался в вагон, схватил свой худенький рюкзак и уже на ходу, оттолкнув в сторону опешившую проводницу, выпрыгнул на перрон.
— Чокнулся? — крикнула ему в спину проводница. — Ты куда?
Он с улыбкой помахал ей левой рукой, правой держа на весу рюкзак.
— Прыгай! — свесилась проводница, едва не вываливаясь из тамбура. — Успеешь! Ты че? Псих?
Он по-прежнему улыбался и махал рукой, а потом, когда последний вагон пронесся мимо, вдруг сделал несколько шагов вслед за поездом, однако остановился: глупо бежать, один черт не догонишь. Остался он на этой станции — и ладно. С первой женой встретится. А приглянется — и навсегда осядет тут. Почему бы нет? Тонька вон спокойно живет. И он, может быть, жить станет. Посмотрим, как судьба повернется. Море не убежит, к нему и потом можно попасть.
На вокзале он с привычной настороженностью зыркнул по сторонам. Кажется, никакой опасности. Вокзал был пуст, неуютен, возле буфета стояли два солдата в старательно начищенных сапогах и пили пиво. «Бедняги, — усмехнулся он, — на водку денег не хватает». Но у самого у него тоже денег не было, и он выпил даже не пиво, а стакан бледно-желтой теплой газировки.
«Километра два до переезда? — прикидывал он, направляясь на северо-запад, откуда недавно приехал. — Да, не больше. Мигом дошагаю. Через полчасика обнимем Тонечку. Но раздалась она! Как на дрожжах. От хорошей жизни, видать. Не мучается, вроде меня».
Ему стало обидно. Он еще не знал, как жила Тонька эти годы — может быть, хуже его, — но уже зло скрипел зубами, заранее предвидя раздражение, с каким будет говорить с ней. Правда, минуты три спустя он спросил себя: «Ты чего, друг ситный? Охренел? По-человечески поговори с ней, по-человечески. Но исключено, что пригреет тебя. Вдвоем будете дни коротать. Возле сына. Ему сколько сейчас? Восемнадцать? Здоровенный мужик».
Тонька сидела в будке. Перед ней на столе лежали несколько помидоров, аккуратно разрезанный на ломтики кусок сала, была рассыпана на мятом клочке газеты соль. В руках Тонька держала круглую буханку, отщипывая прямо от нее и отправляя в рот ноздреватый хлеб. Дверь в будку была открыта настежь, и он, шагов пять не доходя до будки, уже увидел Тоньку, с жадностью поглощающую еду. Челюсти ее двигались быстро-быстро. Как у стрекозы. И, как давным-давно когда-то, румянец горел на посеревших тонькиных щеках.
Она испугалась, заметив его. Он же, наоборот, ни капли страха не испытывал — возможно, его собственный страх, под пятой которого он так долго жил, неведомым образом перелился в Тоньку.
— Вася? Откуда? — прошептала она.
Поначалу он не понял, что обращаются к нему — собственное имя он не слышал много-много лет. Вот разве в Березовке недавно… Но ведь этого не было! Не было Настиной матери, не было избы деда Ознобина и самого деда Ознобина не было — они приснились ему, и надо поскорее забыть этот кошмарный сон. Так что впервые за много лет он в реальности услышал свое имя. Оказывается, его зовут Василием, а не Григорием или Иваном Петровичем Сергеевым. Вот такие дела: его, оказывается, зовут Василием. Надо запомнить, и на это имя откликаться, а не на какое-нибудь другое — по крайней мере, пока общается с Тонькой.
— Точно, — ухмыльнулся он, — ты не ошиблась: Вася. Проезжал, понимаешь, мимо, гляжу — Тонечка! Командует поездами, куда им следовать.
— Ты уходи, уходи, — замахала она руками. — Христом-богом прошу. Я не видела тебя, а ты меня. Уходи.
— Поцелуемся давай, что ли. Не чужие все же люди. Мужем и женой считались.
— Уходи, уходи…
Тонька до смерти испугалась его, и только одно повторяла, умоляюще глядя на него:
— Уходи… Уходи… Уходи…
Он присел к столу, нахально взял помидор, надкусил, обмакнул в соль и с притворным удовольствием начал есть. Из помидора брызнул сок, попав на соль, которая вмиг намокла. Желтое помидорное семячко, окруженное соком, прилипло к клочку газеты. Он с усмешкой посмотрел на семячко и щелчком сбил на пол.
— Никуда я не уйду, — сказал он. — Мне тут почему-то нравится. А ты чего боишься? Муж, что ли, должен прийти?
— Нет, нет… Уходи, уходи…
— Ну чего заладила: уходи. Других слов не знаешь?
— Я совсем, совсем забыла все, что было тогда. Я думала, никого в живых не осталось, кто помнил бы. Ты ведь погиб. А ты живой. Я думала, никто не напомнит. Я думала…
— Плевать, что ты там думала. Ясно? Рассказывай лучше, как сама спаслась, как теперь живешь. Муж-то прийти сюда не должен?
— Нет, нет. Он у меня инвалид, к постели прикован.
— А сын?
— Какой сын?
— Ну наш… Или Мишки Митрофанова… Я уж не знаю, чей он на самом деле.
— Умер он, Вася. Еще в том году. Вспомни, какая жизнь была. Трудная. Не уберегла.
— Понятно…
Он вздохнул. Сделал он это неискренне, потому что за все годы, что не виделся с Тонькой, не больше трех раз вспоминал ее и сына. Что ему пащенок, неизвестно от кого зачатый? Но момент требовал, чтобы он как-нибудь выразил свое отношение к сообщенному Тонькой, вот он и вздохнул.
Потом Тонька, беспрерывно всхлипывая, несколько раз выбегая из будки, чтобы проводить проносящийся мимо поезд, рассказала о своей жизни. Событиями ее жизнь была небогата. Поначалу Тонька двигалась на запад вслед за отступающими немцами, потом где-то в Венгрии внезапно оказалась в тылу наших войск. Потом выдала себя за угнанную в плен. Потом при госпитале работала. Там и познакомилась с калекой, за которого вышла замуж. Все эти годы живет в здешних краях. Раньше жили в деревне, у них там и дом сохранился, теперь вот в поселок перебрались — тут лучше: и работа не такая пыльная, и аптека есть, чтобы мужу лекарства покупать, и с продуктами полегче.
— Дом, говоришь, в деревне есть? — спросил он. — Далеко отсюда?
— Не очень. Но глушь там.
— Это то, что мне надо. Хочешь, из мужа превращусь в брата? Ты своему калеке про себя многое, наверное, наплела. И про брата, уверен. А как же без брата? Погиб он у тебя, небось, или без вести пропал? Угадал?
Тонька безвольно кивнула.
— Ну так радуйся: жив братец, перед тобой сидит. Бывают в жизни чудеса. Как теперь моя фамилия, как зовут меня, Тонечка?
С прежнем безволием Тонька ответила:
— Абакумов. Сергей Сергеевич.
— Это твоя фамилия — Абакумова? А я, знаешь, напрочь забыл. Ну и дела! — Он поражался своей забывчивости, словно ничего более важного, чем девичья фамилия Тоньки, отродясь не забывал.
4
Началась новая жизнь — бог весть какая по счету. То, что в судьбе человека неделимо, у него распалось на множество частей. Во всех своих жизнях он от начала до конца был другим, оставаясь все-таки во всех передрягах (тайно, для себя только) Васькой Левашовым, родившимся в забытой им деревне, от напрочь забытых людей. Он знал, что при встрече вряд ли узнает мать: из таких далеких, так прочно выветрившихся из памяти дней была она, нежностью и любовью согревшая начальную его жизнь. И первая, самая счастливая его жизнь, и все последующие, они никак не состыковывались одна с другой, из маленьких ручейков не сливались в полноводную и извилистую речку, которая должна была быть его Жизнью. Нет, каждый ручеек сам по себе скакал по мшистым камням, нырял в раскидистые заросли ивняка, терялся в острой осоке. И мелел сам по себе. В конце концов, мелел — сил не хватало ручейку добежать до реки, слиться с другими реками, стать Океаном.
И лесной глуши первое время ему было очень спокойно. Иногда к нему приезжала Тонька — брат все-таки, надо его обиходить, — и мало-помалу когдатошняя горячечная тяга их тел друг к другу словно бы новую силу обрела, словно бы яркими закатными красками расцвела, и его и ее наполнив тугой радостью. Правда, радость слишком быстро переходила в слезы — Тонька плакала, часто плакала. Он не понимал чем вызваны слезы. Ему-то лично уже одного того хватало, что забытое тепло женского тела обволакивало его и успокаивало, что рядом с этим теплом никакие горести и воспоминания силы не имели. В ночной пятнистой тьме, которая скрадывала их лица, Тонька казалась ему давней Тонькой и сам он себе казался давним Васькой Левашовым, еще многого не испытавшим из того, что он испытал на самом деле. Рядом с Тонькой он вернулся в одну из своих радостных жизней. Не хотелось покидать ее. Долго-долго длилось бы это счастье! Длилось бы и длилось! Что ему стоит? — пусть длится!