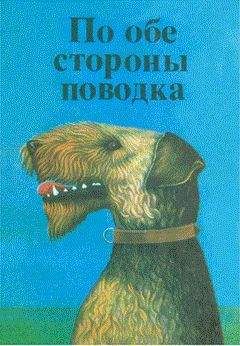Михаил Латышев - Мышонок
5
С появлением брата, заметил Георгий Дмитриевич, что-то неладное стало твориться с Тоней. Чуть что — в слезы. Впрочем, и ластиться к нему она стала чаще, беспричинно вдруг обвивала его шею, целовала, шептала: «Какой ты хороший…» Поговорить бы с ней откровенно, подтолкнуть бы к чистосердечному рассказу, но Георгий Дмитриевич не знал, как это сделать. Он был, в общем-то, человек наивный, не приученный к хитрости и лицемерию. Что ему скажут, тому и верил, и считал, что поступает правильно: если выискивать во всем скрытый смысл да заранее считать будто в разговоре с тобой говорят неправду, то как жить, как жить? Может быть, и можно, однако это будет не жизнь, а сплошное мучение, заляпанное грязью вечного недоверия ко всем и всему. Он жене верил. Не мог не верить — слишком многим она пожертвовала, став женой инвалида. Он был обязан ей, как никому другому — с лета сорок пятого она нянчила его. По-другому не скажешь: нянчила. На что он способен? Ни на что. Вся тяжесть падает на нее. Она за двоих работает, за двоих делает все по дому.
Ночи, заметил Георгий Дмитриевич, все чаще и чаще без сна стала проводить Тоня. Лежит, молчит, притворяется спящей, но по дыханию он чувствует: притворяется. Потом ненадолго она забывается, засыпает, но вскоре нервно вздрагивает и опять о чем-то думает, мучается, тихонько встает, пьет воду, снова ложится, и те же мучительные мысли неотвязно преследуют ее. В одну из ночей Георгий Дмитриевич не выдержал:
— Тоня, давай поговорим откровенно.
— Что? — она подняла голову от подушки.
— Поговорим давай. Откровенно. Я вижу: что-то с тобой творится. С тех пор, как Сергей появился. О доме вспоминаешь, да? О семье?
— Ага, — односложно ответила она.
— Тоня, а ты… Ты правду говоришь? — он смущался своего вопроса: кто дал ему право сомневаться в искренности жены?
— Правду, — опять односложно ответила она.
Георгий Дмитриевич по интонации почувствовал, что она хочет поскорее закончить разговор. Он тоже рад был бы замолчать, но не для собственного же спокойствия вмешался он в ее ночные смятенные мысли. Необходимо до конца прояснить все.
— А мне кажется… — начал он.
Она перебила:
— Я потом все расскажу, утром. Мне надо видеть твое лицо. Утром я все расскажу. Утром.
Утром она на самом деле рассказала мужу и о Левашове, и о себе, и обо всей своей давней жизни. Рассказала до удивления спокойно, неподвижно сидя на табурете посреди кухни, только время от времени заглядывая в помутневшие от боли глаза мужа. Он верил и не верил ей. Слишком непохоже было все на то, что он знал о жене. Он прекрасно помнил худую оборванную девчонку, которая день и ночь проводила возле его кровати. За окном буйствовала зелень, черепичные крыши чешского городка, название которого сейчас он и не помнил толком, были залиты солнцем. Он смотрел на нее, она смотрела на него, и между ними возникало, день ото дня становясь все крепче, что-то такое, что сильнее всяких страданий и смертей, что поднимает человека над окружающей его болью и грязью, заставляя весело и уверенно смотреть в будущее, каким бы страшным оно ни было. До ранения он был красив. Она тоже не уродкой была, несмотря на худобу и неказистую одежку. Но не это же, не их красота или некрасота связало их! Они судьбой предназначены друг другу, считал он раньше. Только так: предназначены судьбой. Иначе он не мог объяснить себе, почему она должна мучаться с ним. А что ей очень трудно, он прекрасно понимал. Теперь же вдруг начал понимать другое: возможно, она все время притворялась. Особенно в госпитале. Ей необходимо было поскорее поменять фамилию, скрыться подальше. Он подходил для ее целей. Она вполне могла связать свою жизнь и с кем-нибудь другим, так же убедительно сыграв любовь и самоотверженность.
Минут пять, наверно, они молчали. Выговорившись, она стала спокойной-спокойной. Откровенностью она словно бы оправдала себя и переложила на него тяжесть своего прошлого. Ему, а не ей предстояло решать: что делать дальше? Как он скажет, так и будет. А что он мог сказать? Что? У него никого, кроме нее, не было, и он должен был вынести приговор ей, единственной.
Георгий Дмитриевич заплакал. Она подошла, опустилась перед ним на колени, и снизу вверх смотрела на него тоже полными слез глазами.
Она не все сказала ему. Да, неожиданное появление Левашова перевернуло с ног на голову ее налаженную жизнь. Да, она прочно забыла прошлое и про себя уверена даже была, что все вокруг тоже забыли. Иногда она слышала о судебных процессах над предателями, но не могла представить, что и ее могут судить. Кого судили бы? Глупую девчонку почти по легкомыслию ставшей убийцей или женщину в годах, ничем позорным себя не запятнавшую? Судили бы вторую, и это по ее мнению было бы несправедливо. Нет, нет, ее теперешнюю судить не за что, и никто судить ее не будет, она рядом с Юрой кончит дни, изо всех сил стараясь, чтобы ему было хорошо.
Так вот, она не все сказала мужу. Не столько появление Левашова заставило ее не спать ночи напролет, сколько ощущение, что кто-то тайно старается узнать ее прошлое. Началось все с пустяка: пригласили в отдел кадров депо и попросили уточнить кое-какие данные. Она давно заучила наизусть (ночью разбуди, без запинки ответит), где якобы жила, чем занималась. До сих пор всех удовлетворяли ее объяснения, но на этот раз ее попросили вторично зайти. Кроме начальника отдела кадров сидел в комнате какой-то незнакомый мужчина, невысокого роста, с невыразительным лицом. Она не обратила на него внимания, и лишь позже панически подумала, что не случайно все это, ой, не случайно. А когда всплыл в памяти цепкий взгляд, который бросил на нее незнакомец, едва она вошла в отдел кадров, она даже похолодела от страха: низенький мужчина словно бы насквозь видел ее, скромную и работящую, награжденную несколькими грамотами. Потом, возвращаясь однажды с работы, она увидела мужчину во второй раз. Он выходил от соседей. И снова его взгляд показался ей преисполненным особого значения. Третья их встреча состоялась опять на улице, может быть, была случайна, но именно из-за последней встречи она лишилась сна, а не из-за Левашова, как поначалу предполагал муж.
Порой ей казалось, что она великолепно знает мужчину — сталкивалась с ним в той, забытой жизни, и даже принесла ему горе, за которое он поклялся отомстить. Порой, наоборот, она убеждала себя, что ошибается: мужчина — просто знакомый начальника отдела кадров, здешний житель, случайно невиденный ею раньше. До глухого звона в голове раздумывала она ночами: кто таков этот мужчина? Говорить или не говорить о нем Юре? А если говорить, то говорить ли все до конца откровенно? Или сначала с Левашовым посоветоваться — уж он-то подскажет, как быть, что предпринять?
То, что муж невольно подтолкнул ее к откровенности, с облегчением было воспринято ею — не одна будет страдать, одной всегда труднее. Когда он заплакал, она поначалу только удивилась его слезам — первым слезам за все годы. Затем пришла благодарность: раз плачет, значит, дорожит ею, а раз дорожит, должен придумать, как ей спастись.
Она смотрела на него снизу вверх, и он казался ей красивым, сильным и добрым — красивей, сильней и добрей не найти человека.
Он поймал ее взгляд и глухо спросил:
— Тоня, что же нам делать, как быть?
— Не знаю.
— Мы были счастливы, нам было хорошо.
Она кивнула.
— Что же теперь? Что?
Она положила голову ему на колени:
— Не знаю.
— Тоня, Тонечка, скажи, что ты… Ты неправду сказала, да? Неправду? Ты зачем-то решила проверить меня? — Дрожащими руками он гладил ее по голове.
Ей хотелось сказать: да, я пошутила, я проверяла твою любовь, — но страх, который внес в ее жизнь мужчина, заглушил страдания мужа. Ей очень, очень нужен защитник! Защитить же ее можно только зная о ней все. Откровенность еще сильнее свяжет их или навсегда оттолкнет друг от друга. Она инстинктивно предпочла откровенность — пусть знает правду, после этого он или предаст ее, или спасет. Откровенностью они сейчас сильнее связаны, чем любовью.
Они опять надолго замолчали. Она уже поднялась с колен и хмуро смотрела на него, кусая губы. За окном привычно посвистывали маневровые тепловозы, чирикали воробьи, переговаривались, идя на работу, люди.
— Потом поговорим, когда вернусь, — сказала она. — Мне надо идти.
— Да, потом… Потом решим, что делать.
Она быстро собрала еду себе на обед, завернула в газету, положила в черную брезентовую сумку, потом сказала, где что лежит на обед ему, напомнила, чтобы не забывал, выпил таблетки и ушла — обычно, как всегда уходила. А он, придавленный так внезапно свалившейся на него бедой, с час — не меньше — неподвижно сидел, вперив взор в стену, и мысли его глухо стукались друг о друга, тяжело перекатываясь в пустом до ужаса мозгу. Когда в дверь постучали, ему показалось, что это возвращается она — забыла что-то, а может быть, хочет добавить что-нибудь к своему рассказу, сказать, может быть, хочет, что непонятно зачем безжалостно разыграла его. Однако это не она возвращалась — вошел невысокий худой мужчина, извинился, сказал, что из военкомата, надо кое-что уточнить.