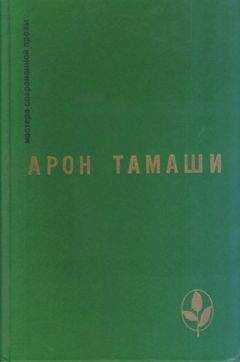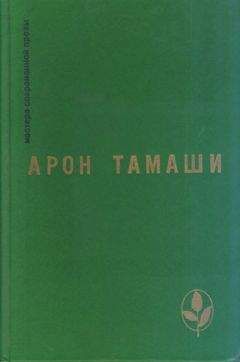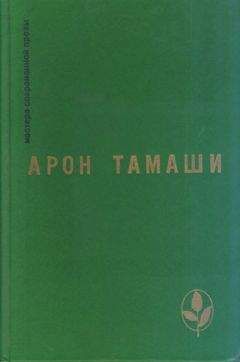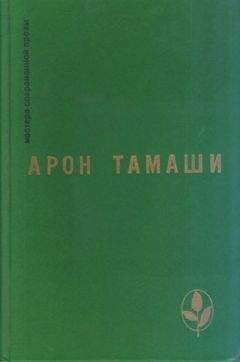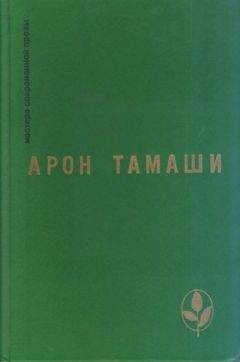Арон Тамаши - Абель в глухом лесу
— А ну-ка, жуй давай! — распорядился он наконец.
Вижу, как ни верти, а мученичество принять выпадет мне, поэтому отхватил прожаренный кусочек орлятины и сунул в рот. И только тут понял, на что решился. Потому как было орлиное мясо не только что жесткое, но еще и смердело, воняло падалью. Не знай я наверное, что у меня во рту, сказал бы, что кусок бочкоров мне подсунули, сняв с ноги, гнойниками покрытой!
— Ну как, вкусно? — спросил Шурделан.
— Прямо и не сказать, как вкусно, — ответил я.
А сам думаю: вот сейчас меня вывернет, да так, что и костер заглохнет. В великой муке воззвал я к господу, молил его дать мне на этот раз силы и мужества, чтобы мне, венгру, перед Шурделаном не опозориться. Однако же при этом я почти с радостью наблюдал, что и он взял в рот первый кусок.
— Ну как, вкусно ли? — спросил теперь я.
А он тоже ответил, как я:
— Прямо и не сказать.
Да только я-то по лицу его видел, что оба мы мясо одного орла жевали. Ел Шурделан и на меня поглядывал, будто не верил, что я только что мясо хвалил. Но при том не сдавался, жевал со старанием, храбро жевал — так что пришлось мне, хоть и в укор себе, признать его геройство.
Впрочем, и я не сдавался!
Так трудились мы довольно долго — сам орел не трудился бы над нами лучше кривым своим клювом! — челюсти у нас уже едва двигались, притомясь, вонючее мясо становилось все жестче. Но сердце Шурделаново от этих трудов, видно, добрее стало, справедливее. Потому как отбросил он наконец обглоданную кость и сказал мне:
— А теперь давай по справедливости!
— Это как же? — спросил я.
— Будь по-твоему, братец: оставшееся мясо разделим поровну.
Тут и я поскорей отложил свою кость, даром что на ней еще мяса оставалось на треть — а по правде сказать, как раз по этой причине. Но и другая причина была: испугался я, как бы Шурделан не заставил меня тут же съесть все мясо, причитающееся мне по справедливости. Слава богу, до этого не дошло, потому что, поделив мясо, он сказал совсем мирно:
— А теперь доброму примеру последуем.
— Какому же?
— Добрый пример с умный человек брать надобно. Который не все за один раз съедает.
В знак согласия я перебросил свою полуобглоданную кость Блохе, пусть займется ею, пока я поджарю кусочек, который ей Шурделан назначил. Однако Блоха оказалась гордой, не то что мы, она только обнюхала кость и тотчас отвернулась, глядеть в ее сторону не хотела.
Мы сложили наши порции в большую кастрюлю, кастрюлю подвесили на дерево, между ветками, чтобы мясо ветерком обдувало и на холоде сохранялось.
Потом я впустил Блоху в сараюшку, к козе, — в дом-то она ни за что войти не желала, — и мы наладились спать. Шурделан лег первым, как и прежде, на мою кровать, да только не успел лечь, как тут же подскочил и, пошатываясь, вышел. Я за ним не последовал, но отлично слышал, как он, громко рыгая, отдавал свежему снежку орлиное мясо.
Какой ни был он деспот, а все же я от души пожалел его.
Эх, если б и со мной было то же! Но меня ждало кое-что похуже. Только я улегся, меня затрясло от холода, потом обдало жаром и опять в холод бросило. А пока лютая хворь, нежданный враг, обеими ногами на мне отплясывала, в животе началась такая война, какой не было и той ночью, когда я, во главе монашьего войска, с дьяволами сражался. Глазные яблоки горели, словно два раскаленных угля, все мои члены с каждым мигом становились тяжелее и тяжелее.
Я чувствовал, что надо мной нависла какая-то неизъяснимая, но ужасная беда. И чудилось по временам, будто я лежу на поверхности глубокого озера, а руки-ноги мои неудержимо тянут меня на дно; а то еще казался я себе большим трутом, который в серединке уже схватило огнем.
Ясно было, что это орлы наложили на меня проклятье.
Покончив на дворе с невеселой своей работой, Шурделан подошел прямо ко мне. Остановился возле моей подстилки и, утирая рот и лоб, глядел на меня так, словно прибыл в госпиталь после проигранного сражения.
— Что, парень, тебе вроде бы неможется? — спросил он.
— Не вроде бы, а на самом деле, — выговорил я.
— А что чувствуешь?
— Всякое чувствую. И холод, и жар, и бурю.
— Ну, не горюй, в моем нутре тоже орел воскрес, — ободрил меня Шурделан.
— И улетел?
— Выблевал я эта вонючий тварь!
А за окном снежное месиво завертелось еще круче. И, будто зимние архангелы протрубили тревогу, вся природа принялась за работу: на волнующихся полянах заплясали, тряся лохматыми головами, можжевеловые кусты, гудели-ворчали горы, пьяно завывал лес, гонялись друг за дружкою ветры с белыми развевающимися гривами.
Сквозь щели дощатых стен хлипкой моей сторожки зима врывалась и к нам, фитиль в лампе трепетал, словно золотистая бабочка.
— Люди навоевались вдосталь, теперь господь воевать принялся, — сказал Шурделан и подложил в печурку побольше дров.
Я попросил его привернуть фитиль, он привернул и опять подошел к моему ложу.
— Вот, дров подбавить в печурке… чтоб не простудиться ты.
Я знал: так говорить научили его лишь общая наша хворь да злая зима, но не то было важно. Главное же, как я понимал, что рядом со мной живая душа, живой человек, и мы с ним на одной земле делим одну судьбу, и вместе с ним, оказавшись в нужде, наелись одной и той же хвори.
— Теперь мне уже не холодно, — сказал я, расчувствовавшись, — потому как я вижу, что и у вас есть сердце.
Шурделан ничего не сказал на это, молча взял со своей кровати одну попону и укрыл меня ею.
— И жандарм на службе состоит, и сторож тоже, — выговорил он негромко.
Я приподнялся, чтобы пожать ему руку.
После того мы больше не разговаривали. Он лег, я натянул попону на голову.
И пока за стеной гуляла шумная зимняя свадьба, я, пригревшись, раздумывал о жизни своей и судьбе. Я задал себе вопрос: ежели теперь, наевшись мяса стервятника, я вдруг возьму да помру, останется ли после меня что-то стоящее? Дом я не построил, это уж так; никакого подвига не совершил, из огня, из воды никого не вытащил! А вот доброму дружку моему два года назад голову проломил, у покойной бабушки три грошика украл, здесь, на Харгите, двенадцать саженей дров продал, выручку прикарманил…
И за все это попросил я небо простить меня, а в поддержание мольбы моей помянул, что все-таки, когда можно было, я и человеку и зверю старался сделать добро, и о справедливости забывал редко, и родителей моих не огорчал беспричинно.
— Родителей моих… — прозвучало во мне отголоском.
И тотчас сердце наполнилось до краев какою-то завороженной печалью, вспомнилась мне моя матушка, которую вот же и в болезни я не оставил одну, как и она, слег здесь, на Харгите, как и она, едва удерживаюсь на смертном откосе…
И с этих пор думал уже только о ней: ее видел, то в слезах, то в радости, слышал ласковый ее голос и печальное пение, пока не заволокло мне глаза гулким ночным дурманом и чьи-то добрые руки не потянули больное тело куда-то вниз, под мост, в черноту.
Я уснул.
А когда утром проснулся, постель в изголовье была совсем мокрая. Шурделан стоял у окна и глядел на зиму; она все с тою же злобой подминала мир под свой белый гнет. Мое тело плавало в поту и совсем ослабело.
— Ну, как есть хворь твоя? — спросил Шурделан.
— Да так… расставаться со мной не хочет, — сказал я.
— А лучше бы пошла к дьяволу!
— В этакую непогоду?
— Такая-то самый раз, чтоб сгинула там на морозе.
Я видел, что Шурделан хоть и грубо, но в самом деле желает мне добра. И захотелось мне в благодарность рассказать ему сон свой — может, он тогда еще больше меня полюбит и еще сердечнее станет за мною присматривать.
— Вам что-нибудь снилось? — завел я разговор.
Шурделан громко захохотал.
— Дурь всякий в голову лез, — сказал он.
— Какая дурь?
— А такая, что эта зима с большой снег Фусилан нам устроил!
— Ну, мне привиделось кое-что пострашнее.
— Что такое?
— Горе приснилось, — говорю. — Будто матушка моя померла.
— А, черт!
— Погодите, тут сну моему еще не конец, — продолжал я. — Самое-то чудное после было… Только она померла, отец достает трембиту и говорит мне: «Ну, Абель, гляди в оба, когда чудо себя оказывать начнет!» — и затрубил, чтобы, значит, матушку мою воскресить из мертвых. Трубил он, трубил, и вот какое-то время спустя я в самом деле вижу, что глаза матушки моей открываются и она улыбается мне. «Довольно трубить, — говорю отцу, — матушка ожила!» А отец отвечает, что теперь остановиться не может, потому как только-только во вкус вошел, понял, как на той трембите надо играть. Мы с матушкой ждать его не стали, на радостях отправились в церковь вдвоем, а когда воротились, вокруг нашего дома целая армия воскресших людей стоит. А в доме увидели мы посланцев от живых, еще не померших, они пришли к моему отцу, просили его перестать трубить, не то мертвые все как есть воскреснут и выгонят живых из усадеб, с должностей прогонят. Чего только не сулили они отцу, но он все трубил и трубил. Тогда банковский директор, который меня сюда, на Харгиту, нанял и тоже среди посланцев был, вдруг вырвал трембиту у отца из рук, принес ее сюда, в сторожку, и за кроватью спрятал. А мы с вами трембиту потом нашли и стали думать, чья она, моя или ваша будет? Наконец порешили так, что сама трембита будет ваша, а звук ее — мой. Оно бы и хорошо, но тут опять незадача вышла, потому как я и без трембиты трубить мог, а вы не могли, хоть и с трембитой. Но мы все ж придумали, как делу помочь, — поклялись в вечной дружбе друг другу, чтобы жить в согласье и в мире. Тогда и с трембитой решилось само собой: вы дули в трембиту, а я голос вам подавал.